Микола лысенко
Лысенко Остап Николаевич МИКОЛА ЛЫСЕНКО
Литературная обработка Бориса ХАНДРОСА

МОИ ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

«Коза-дереза». — Наша Леся. — Кабинет отца. — История старого рояля. — В Орловой Балке. — Дядя Дуся. — Мальчик с золотым жуком. — Китаев. — «Украинские Гомеры»
Мои первые воспоминания об отце связаны с музыкой. С тех пор седьмой десяток миновал, но и поныне отчетливо вспоминаю весеннее утро, крепкую фигуру отца, его лицо с лукавой усмешкой. Семья у нас большая была — четверо детей. Окружили мы отца, ждем. Что-то он принес? Гостинцы? Куклы сестрам? А может, щенка, давно нам обещанного? Но в руках у отца одна лишь нотная бумага. — Дети, — говорит он, и почему-то сразу лицо его становится серьезным, — я сказку для вас написал, музыкальную сказку. Хочу, чтобы вы наши сказки и песни полюбили, полюбили народ наш. Все утро играл нам отец и своим хрипловатым голосом напевал арии Козы-дерезы и Лисички. Нехитрая история о том, как Коза-дереза хотела выгнать бедную Лисичку из ее собственной избушки, как на помощь Лисичке пришли все лесные звери, завладела нами надолго. Это была первая детская опера отца, она и теперь волнует маленьких слушателей. Вся опера для детей: и слушатели и исполнители — дети. Больше месяца готовились к первому представлению. Жили мы тогда на Рейтарской улице по соседству с семьей Косач. Ни одна репетиция не проходила без Леси Косач — Леси Украинки. И хотя тяжелая болезнь уже тогда подтачивала ее здоровье, среди нас, детей, юная поэтесса всегда была веселой, изобретательной. Никогда не забуду ее высокий чистый лоб, то мечтательные, то с хитринкой серые глаза, ручейки-косы. Как светлело лицо отца, когда появлялась Леся. Наша Леся! В нашем театре она была и режиссером, и балетмейстером, и костюмером. Помню, я задал ей больше всего хлопот: партия Волка долго не давалась мне, пятилетнему исполнителю. Режиссером Леся, однако, оказалась на диво терпеливым. Без устали повторяла с нами отдельные сцены, арии и дуэты. Иногда на репетицию приходил отец, он, как и все мы, с нетерпением ожидал «премьеры». На представлении отец исполнял «роль» оркестра. Играл, привычно отбивая такты кивком головы, Леся на правах режиссера весь спектакль была «за кулисами» и ободряла нас как могла. Всегда, сколько я помню отца, он был занят бесчисленными делами — то занимался хором, то бывал в Музыкальном обществе, то давал уроки в школе. И все же всегда находил время для нас. Позже Николай Витальевич написал еще две детские оперы («Пан Коцький» и «Зима и Весна»), которые мы тоже ставили в своем домашнем театре. Отец долго добивался права печатать и ставить эти оперы-сказки на большой сцене. Чего он добился, нетрудно увидеть из «Доклада цензора гр. Головина о рукописи на малороссийском наречии под заглавием «Пан Коцький, комична дитяча, оперка у 4-х д-иях. Текст Днипровой Чайки, музыка М. Лисенко». В «содержании вышеназванной пьесы» (лисица и кот «одурачивают более крупных зверей: медведя, кабана, волка и др.») цензор почуял намек (мало ли кого в Российской империи можно подразумевать под «крупными зверьми») и крамолу (пример лисицы и кота заразителен), а посему не признал «возможным разрешить ее к напечатанию». Следствия доклада сказались немедленно: Главное управление по делам печати уведомило, что «означенное сочинение подлежит запрещению».
* * *
Представьте себе светлый зал, разделенный аркой. В большей части зала — наша гостиная. За аркой — рабочий стол, на нем листки нотной бумаги, чистые и исписанные мелкими значками. Над рабочим столом портрет Тараса Шевченко, убранный вышитыми рушниками. Возле арки большой черный рояль. В его полированной крышке, как в зеркале, отражаются многочисленные фотографии на стене — Марка Кропивницкого, Михаила Старицкого, Антона Рубинштейна — и старый лирник с поводырем, небольшая бронзовая скульптурная группа; она рядом, на этажерке. Эта комната за аркой святая святых — кабинет отца, куда нам, детям, входа нет. За этим следит мать. Стоит только моим шумливым сестричкам затеять игру возле арки — и уже слышен ее голос: — Катря, Галя, Марьяна, как вам не стыдно: отец работает. Мне, как младшему, меньше попадало от мамы. Но как-то в отсутствие отца я забрался в кабинет. Шел мне тогда пятый или шестой год. Нотная бумага (гладенькая такая!) показалась отличным строительным материалом, я сразу принялся за изготовление корабликов. Надо же было в это самое время заглянуть сюда матери! Она всплеснула руками: — Так вот где ты спрятался? И что ты, Остап, с бумагами делаешь! Вот вернется татко. Все расскажу: попадет тебе! Я не верил этим угрозам. От отца, кроме подарков, нам ничего не перепадало. Позже, когда я подрос и сам стал готовиться к педагогической работе, отец признавался мне, что он уж слишком мягок с детьми и это мешает ему, педагогу, ибо, как говорят поляки, «цо занадто, то не здрово» («что чересчур, то не здорово»). Мать была куда требовательнее к нам. И она добивалась своего. В отсутствие отца ни я, ни сестры не хозяйничали в его кабинете. Научились мы также, чтобы не мешать отцу, играть тихонько, «без звука». Зато какой праздник наступал для нас, когда из кабинета раздавалось: — Катруся, Остап, Галя, Марьяна! Что это вас не слышно? Идите сюда скорее! Тут, правда, для Катруси-гимназистки нередко начинался настоящий экзамен! Мы с Галей как могли переживали за сестричку. Зато впереди… …Отцовские сказки! Как любили мы слушать их в долгие зимние вечера! Больше всего — сказки про одних и тех же героев. Ну, хотя бы про Козу-дерезу, глупого Волка и хитрую Лисичку или про Бабу-Ягу. Каждый раз случались с ними новые истории, то грустные, то смешные, в зависимости от настроения отца. Когда мне минул шестой год, помнится, на другой день после именин отец посадил меня за рояль. И теперь, как только мои пальцы прикасаются к клавишам, меня на какое-то мгновение охватывает то чувство удивления и счастья, которое я испытал много лет назад, когда впервые сел за отцовский рояль. У этого рояля есть своя история, которую стоит рассказать. Долгое время в распоряжении отца было только пианино. В 1889 году он, наконец, приобрел на Крещатике в магазине под странным названием «Депо роялей Кернтопфа» рояль немецкой фабрики «Блютнер», которая своей продукцией славилась тогда на всю Европу. Многое видел и пережил на своем веку этот рояль. Не одну ночь провел за ним отец, создавая «Тараса Бульбу», свои рапсодии и сюиты. Когда собирались друзья, гостиная нередко превращалась в импровизированную эстраду. Поднималась полированная крышка, и «рабочий рояль», принимая торжественный вид, становился «концертным». На этом рояле отец до самой кончины демонстрировал все свои произведения. Кого только не видел старый рояль: Михайла Коцюбинского и Ивана Франко, Римского-Корсакова и Чайковского! Над ним склонялась, глубоко задумавшись, Леся Украинка, слушая мелодию знаменитого дуэта Лысенко на слова Гейне «Коли розлучаются двоє». Отец завещал рояль моей младшей сестре Марианне Николаевне. В ее квартире (Чеховский проезд, 6) он простоял до Великой Отечественной войны. Гитлеровцы, ворвавшись в Киев, занялись расстрелами и грабежами. По просьбе сестры соседи помогли ей перенести рояль на чердак, где он и пробыл всю оккупацию, прикрытый тряпьем и хламом. На чердаке, в сырости, дека потрескалась, струны заржавели. Вернулся рояль с войны инвалидом с охрипшим голосом. Вскоре сестра передала его Киевской консерватории, где умелые руки реставраторов-чудотворцев вернули ему прежний блеск и мелодичный чистый голос. В кабинет-музей Миколы Лысенко приходят студенты — будущие исполнители, композиторы, — и снова оживает, молодеет старый рояль, «Лысенковый рояль», как говорят в консерватории.
* * *
Летом 1892 года холера погнала нашу семью из Киева. Мы поселились в селе Орловая Балка. Тут Николай Витальевич начал работать над оркестровкой оперы «Тарас Бульба». После обеда мы обычно всей семьей отправлялись в Знаменку. «Дядя Дуся», Андрей Витальевич Лысенко, родной брат отца, — тот знаменский магнит, который с одинаковой силой притягивал и взрослых и Лысенкову детвору. Отец всегда с особой теплотой, я бы сказал — с гордостью, говорил о своем любимом брате. Андрей Витальевич окончил Киевский университет, несколько лет прослужил флотским врачом сначала на Балтике, затем на Черном море. На военном судне, почти по следам фрегата «Паллада», он совершил кругосветное плавание и, может, навсегда остался бы «морским доктором», если бы смог примириться с тем, что всю жизнь ненавидел. Его неожиданный уход в отставку был протестом против жестокого произвола, нечеловеческих издевательств над матросами в царском флоте. В 80—90-х годах Андрей Витальевич работал врачом на железной дороге. Жил он на станции Знаменка. В Киев наезжал частенько. Сызмала зная о дальних странствиях дяди Дуси, восхищаясь им, мы, дети, всегда видели в нем особенного 'человека, настоящего героя. Но только позднее я понял, какими делами занимался дядя Дуся в Киеве, чьи поручения выполнял. Один из старейших членов РСДРП, он использовал свои служебные поездки для транспортировки нелегальной марксистской литературы. И теперь перед глазами большая комната. На подоконнике слон с высоко поднятым хоботом, готовый к бою, рядом мастерски вырезанные из слоновой кости фигуры тигра, пантеры и других обитателей дремучих джунглей. На стенах мирно уживаются сочная акварель Днепра, виды Бомбея и Шанхая, Сингапура и Гибралтара, тульская двустволка и курительная трубка с причудливыми узорами, вывезенная с Явы или Борнео. Время было тревожное — холера, и, видно, чтобы рассеять гнетущие думы, Андрей Витальевич вечерами подолгу рассказывал о солнечной Индии, о морских походах. Даже в вокзальном шуме нам чудился глухой рокот таинственного, светящегося в ночи океана. Океан моего детства! Ты так и остался для меня синей мечтой, чудесным сном, из которого в маленьком дядином домике плыли мне навстречу города и храмы, умные слоны-носильщики в портах Индии, продавцы гигантских змей… Как флотский врач, Андрей Витальевич охотно посещал «туземцев» — так презрительно называли колонизаторы китайцев и индусов, бирманцев и египтян. С гневом, с болью сердечной говорил он о массовых эпидемиях, о страшном голоде, ежегодно уничтожавшем в этих странах целые города и селения. — Куда ни кинешь оком — неволя тяжкая. Тут врач не поможет, — не раз повторял Андрей Витальевич. — Тут надо «миром, громадою обух сталить, та добре вигострить сокиру — та й заходиться вже будить»[1]. Андрей Витальевич знал и тонко понимал музыку, сам играл на скрипке. Вечера в его маленьком домике часто завершались концертами. Отец садился за фортепиано, Андрей Витальевич со скрипкой становился рядом. Играли Чайковского, Бетховена. Хорошо помню в исполнении братьев «Мелодию» Чайковского. Все, что переплелось в этой мелодии: безграничная печаль, терзающая сердца, вера в человека, который победит и тоску и горе, отражалось на мужественном лице дяди Андрея. А он, никого не видя в эти минуты, все играл и играл. — Ах, Андрию, Андрию! — не стыдясь слез, говорил отец. — И чего ты в лекари пошел? Быть бы тебе настоящим скрипачом.
* * *
Холерное лето в Орловой Балке мне запомнилось еще одним событием. Все началось с того, что к отцу прибыл гонец от владельцев соседнего имения Шимановских. Шимановские просили «уважаемого и прославленного маэстро Лысенко» прослушать игру их девятилетнего сына Кароля. Отец взял меня с собою. Пока шел разговор между взрослыми, худенький бледный мальчик, возбужденно поблескивая большими синими как небо глазами, показывал мне свое хозяйство: оловянных солдатиков, золотого жука, пойманного по секрету от мамы далеко за левадой, коня из папье-маше на трех ногах и другие не менее важные вещи. Вскоре мальчика позвали. Его маленькая фигурка так и прикипела к роялю, и по комнате понеслись звуки «Полонеза» Огинского. Без нот, по памяти, бледнолицый мальчик с длинными, нежными пальцами играл одно за другим произведения Шопена, Шуберта. Отец молча слушал, вдруг стремительно поднялся, подошел к роялю и крепко обнял маленького пианиста, смущенного и счастливого. — Ты будешь большим музыкантом, мой мальчик. Учись! Всю жизнь учись! Как ни приглашали Шимановские остаться на обед, мы сразу же уехали. Видно, отцу хотелось побыть одному. Несколько дней ходил он под впечатлением мастерской игры мальчика с золотым жуком. — Какой талант! Силища! Жаль, если не разовьется. Мог ли тогда знать Николай Витальевич, что молодой композитор Кароль Шимановский пленит сердца миллионов? Незадолго до своей смерти прославленный польский композитор приезжал в Советский Союз. Его концерты в Москве прошли с большим успехом. Пророческой оказалась оценка отца.
* * *
В зимние вечера Николай Витальевич любил помечтать вслух о том, где будет отдыхать наша семья летом. Думал часто и о поездке всей семьи на его родину, где не бывал десятки лет. Но посетить родные места ему удалось только за год до своей смерти. Что же до зимних разговоров, то все они кончались тем, что в начале лета мы всей семьей выезжали на дачу в Китаев, в пяти верстах от Киева. Жили неизменно у старообрядца Степана Андреевича. Не знаю, чем так пленил Китаев Николая Витальевича. Роскошными ли садами, зеленым шумом бора, где он часто оставался один на один со столетними дубами, говорливыми березами и соловьиными песнями; а может, привлекала близость к Киеву, где у него и летом было множество дел?.. Между Киевом и Китаевом ходил тогда небольшой пароходик «Парубок». Как ни спешил отец на пристань, он всегда почему-то опаздывал. До берега еще далековато, а «Парубок», хрипя, как старый самовар, уже дымит, готовится к отплытию. Отец что-то кричит капитану, размахивает над головой гуцульской палкой-топориком (подарок друзей из Коломы). И не было такого случая, чтобы «Парубок» отплыл в Киев без отца. Капитан всегда терпеливо ожидал, не то из уважения, не то заботясь о прибыли для своих хозяев. Вспоминаю вечера в Китаеве, куда вслед за нами приезжал с семьей Михайло Старицкий. Бывала у нас и Ольга Петровна Косач (Олена Пчилка), мать Леси Украинки. Приезжала и сама Леся. И тогда до поздней ночи продолжалась беседа. Отец охотно исполнял друзьям свои новые произведения, затем наступала очередь Старицкого. Леся называла такие вечера «соревнованием музыки и литературы». Низенькая деревянная веранда, большой стол, покрытый старинной скатертью, тульский самовар, послуживший, вероятно, не одному поколению. Лампа едва освещает сосредоточенные лица, и все окружающее кажется таинственным, фантастически сказочным. После обеда отец, как он сам любил повторять, «пропадав» в лесу. Случалось, я наблюдал за ним издали, чтобы не мешать. Заметно сутулясь, он неторопливо шагает лесной тропинкой, а то сидит на своем посеревшем от лет пне и что-то быстро записывает в книжечку. Тоненькая книжица в зеленой обложке, постоянная спутница, верная подруга старого композитора, появлялась в самых неожиданных местах. Бывало, отец что-то обсуждает с друзьями, раскатисто смеется над удачной остротой и вдруг замолчит, задумается, а через минуту-другую заветная книжечка уже у него в руках. …Самые памятные дни в Китаеве — большая ежегодная ярмарка на спаса. Китаев бурлит. Отовсюду стекаются, вливаясь в цветистую реку, селяне, слепые старцы, прочане и монахи. Кто на ярмарку, кто в монастырь. На площади несмолкаемый гул. Пьяное веселье, крики торговцев, девичий смех, жалобная песня слепого лирника — все сливается в дивную, неповторимую музыку, сложенную талантливейшим композитором — жизнью. Надо было видеть отца в эти дни. Он точно впитывал в себя все звуки, часами слушал кобзарей и лирников. Записывал с их слов и голоса думы, исторические песни. И хотя одет он был «по-пански», как говорили тогда в народе, и селяне и кобзари, видно, чувствовали в нем своего человека — делились с ним и горем и скупой радостью. Николай Витальевич часто приводил народных певцов к нам в дом. За самоваром, а иногда и за чаркой текли непринужденные беседы. В песнях старых кобзарей оживало прошлое… — Правда теперь у панов в темнице! — выкрикивал речитативом кобзарь, и темнело его лицо, наливался гневом голос. Эта песня, как, впрочем, и многие другие, записанные отцом на ярмарках, на крестьянских свадьбах, вскоре увидела свет в одном из сборников исторических и бытовых песен в обработке Лысенко. — Наше дело десятое: записал, обработал, издал. А уж кто заслужил спасибо сердечное — так это наши кобзари, лирники, верные хранители живого слова народного. «Рапсодами, украинскими Гомерами» любовно называл их Николай Витальевичh3> У СТАРИЦКИХ

«Перед бурей». — В кабинете Старицкого. — Повесть о друге. — Первое жовнинское лето. — Киевский университет — Клятва побратимов. — Лилея — Кандидат в мировые посредники. — В консерваторию!
С тех пор как помню себя, отца — помню и дядю Мишу. Ни одно домашнее событие не обходилось без него. Сколько шуток, смеха вносил он в наши игры! Сколько сказок пересказал он нам, и народных и тут же им придуманных! В Китаеве дядя Миша частенько попадал к нам «в плен». Мы знали все его любимые уголки и, подражая героям куперовских романов, с дикими воплями налетали, требуя выкуп — сказку. На зеленой поляне между двумя дубами — высокая фигура Михаила Петровича. Внизу синее Днепр Славутич. Затаив дыхание слушаем. Не помню точно, о чем рассказывал нам Старицкий — о смелых ли запорожцах, которые на «дубах» и «чайках» добирались до самого Черного моря, о русалках или о доброй лесной фее, — все это забыто, но лицо рассказчика-импровизатора, очень подвижное, его грудной голос до сих пор живут в моей памяти. Дача Старицких — на самом берегу Днепра. В саду отец, гости из Киева. Мы притихли, забились по углам как мышата. Лишь бы не прогнали. Михаил Петрович читает свой новый исторический роман «Перед бурей». Больше всего запомнился мне один эпизод: Богдан Хмельницкий приезжает на Запорожскую Сечь в Кодацкую крепость и попадает в руки предательской шляхты. Богдана бросают в глубокий подземный лех[2]. Тут темно и сыро, как в могиле. Всюду подстерегает героя смерть. Но не о себе думает Богдан. Гложет его тоска-тревога за судьбу матери Украины. На лестнице раздаются тяжелые шаги. Богдан вскакивает — это идут за ним мучители-палачи, он готовится дорого отдать свою жизнь. Гремят замки, открывается железом кованная дверь, блеснул свет и… Богдан в объятиях своего верного друга Ганжи, который вовремя прибыл в Кодак и освободил его. Старицкий — автор, дядя Миша — в эти минуты уже не существовал для нас. Перед нами сидел Богдан со своими думами и муками, в ожидании смерти и с воскресшей надеждой. Мужественный голос Михаила Петровича, такая естественная трагическая интонация, мимика, жесты — все перенесло нас в далекое прошлое. Вдруг завыл-заревел гудок: шел пароход из Киева. Михаил Петрович вздрогнул, удивленно взглянул на нас и… прекратил чтение. Микола Лысенко и Михайло Старицкий — в моей памяти они всегда рядом — побратались еще детьми и полвека прошли рука об руку. Почти все оперы Лысенко — «Черноморцы», «Рождественская ночь», «Утопленница», «Тарас Бульба» — написаны на либретто Михаила Старицкого, большая часть драматических произведений Старицкого насыщена музыкой Лысенко. В архиве отца сохранился пожелтевший листок, исписанный характерным «писарским» почерком Михаила Петровича. Стихотворение настолько характерно для Старицкого, настолько отображает атмосферу того времени, общие стремления Старицкого и Лысенко, что привожу его почти полностьюp>Жалібного на струнах не грай,
Мій єдиний, коханий мій друже.
І серденька моего не вражай,
Бо воно і без того недуже.
А утни мені пісню одну,
І широку й веселу, як воля, —
Щоб, почувши співочу струну,
Усміхнулась і мачуха-доля
Сльози — неміч жіноча, слаба,
А нам треба розбуркати сили,
Щоб піднять свого брата з могили,
Просвітить вікового раба.
Так не грай же сумного, не грай,
А таку вдар — но пісню завзяту,
Щоб долинула й в темную хату
I там жовч [3] зворушила украйПороднили двух побратимов общие взгляды, общие эстетические принципы, общее дело. Культ Пушкина, Некрасова в доме Старицкого (и это роднило его с отцом) господствовал так же, как и культ Тараса. Особенно Михаил Петрович любил Некрасова, его музу «печали и гнева». — Некрасов нашему Тарасу родной брат, — говорил он, а нам, детям, часто читал и «Мороза-воеводу», обходящего дозором свои владенья, и «Дедушку Мазая», и «Железную дорогу». Проникновенно звучал его голос, согретый любовью к поэтуp>Да не робей за отчизну любезную…Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни пошлет!
Вынесет все — и широкую, яснуюГрудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется ни мне, ни тебе.
Горпино Стахівно, горить, Мов сірка[4], моя кров,Бо не дайоть на світі жить
Проклятая любов…
* * *Михаил Петрович любил повторять, что в Лысенковой семье он получил все, что может только пожелать себе человек: родных, Которые заменили ему рано умерших отца и мать, редкую дружбу-побратимство и нежную, преданную сестру-супругу. Титонька моя, Софья Витальевна, младшая сестра отца, четырнадцати лет стала невестой своего кузена и сохранила до старости наивно-восторженную любовь к нему. Заботливая хозяйка, она все делала добротно, без суеты, что как нельзя лучше уравновешивало темпераментного, увлекающегося Михаила Петровича. Помнится мне моя тетя дородной, уже в летах, но все еще подвижной, с неизменной доброй улыбкой. Однако не успеешь с титонькой и словом перекинуться, как уже слышится из кабинета: — Заходь, заходь, Остапе, не мынай мене старого, хворого. Небольшой кабинет Михаила Петровича — вместе с тем и спальня. Письменный стол, заваленный книгами, газетами, исписанными листами. Все в столь живописном беспорядке, что только с помощью домочадцев владелец их находил на столе нужную бумагу. Половину кабинета занимал большой кожаный диван, на котором лежал и работал дядя. Рядом большой шкаф с книгами. Вот и вся обстановка. …С тяжелым чувством входил я в тот вечер в кабинет Михаила Петровича. Больно было видеть его, еще недавно брызжущего здоровьем, поражающего всех своим богатырским голосом, — беспомощным, слабым. …Лицо желтое, под глазами резко очерченные синеватые мешки, пышные усы — «краса козачья» — обвисли. — Видишь, Остап, что со мной сделала проклятущая болезнь. Вот и думаюp>Чи не покинуть нам, небого,
Моя сусідонько убога,
Вірші нікчемні віршувать
Та заходиться риштувать
Вози в далекую дорогу? —
На той світ, друже мій, до бога,
Почумакуєм спочивать.Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа;
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Кони ржут за Сулою,Звенит слава в Киеве…
Ой, Гандзю, милостива,Чим ти брови намастила?
Купервасу купувала,
Чорні брови малювала, —
Ой, Гандзю, кучеряваПід решетом ночувала.
Як решето продереться,
Гандзя лиха набереться.
Ой, ти дуб, я береза,Ой, ти п’яний, я твереза,
Ой, ти старий, я молода,
Чом між нами незлагода.
Ой, я дуб, ти береза,Ой, я п’яний, ти твереза.
Ой, я старий, ти молода,
Тим між нами незлагода.
Ой, на горі огонь горить,А в долині козак лежить,
Накрив очі китайкою,
Заслугою козацькою.
Ой, коню мій вороненький,А де ж мій син молоденький?
Ой, вербо, вербо.Де ты росла,
Що твоє листячко
Вода знесла?
О ты, прелестное созданье,Небесных радостей фиал,
Дай хоть единое лобзанье
За наш сердечный мадригал.
* * *Беднели, разрушались дворянские гнезда. Дед мой развернул было кипучую деятельность. Выстроил в Жовнине винокурню, основал селитренный завод, а в Гриньках принялся строить кошары, амбары, клуню. Потомок Вовгуры-Лиса, однако, не стал ни фабрикантом, ни негоциантом. Был он слишком честен, мягок. Куда ему до местных колупаевых и разуваевых с их мертвой хваткой! Словно мыльные пузыри, лопались все начинания деда, и когда кузены, уже в студенческих мундирах, оказались в Киеве', денег не всегда хватало даже на квартирную плату и табак, без которого не мыслил свое существование ни один уважающий себя студент. …Киевский университет 60-х годов. Беру на себя смелость утверждать, что Киевский университет был для Николая Витальевича тем же, чем, скажем, лицей для Пушкина. В университете Николай Витальевич не только возмужал духовно, не только определил окончательный свой путь народного певца, «о и нашел здесь, среди демократически настроенных студентов, верных друзей-побратимов, которые немало сделали для пробуждения общественной жизни, для развития украинской культуры. Ветеранами 60-х годов называл Николай Витальевич своих университетских товарищей — Михаила Старицкого, Михаила Драгоманова, Тадея Рыльского… 60-е годы. Долгожданная реформа и бунты «неблагодарных» крепостных, которые и на воле чувствовали себя «як собака на привязи», революционные призывы Чернышевского к топору и благодарственные молебны либералов в честь царя-освободителя. Могучие силы пробуждались к жизни не только в Петербурге, но и в провинции, где с нетерпением ожидали свежего номера «Современника», прислушивались к могучему голосу герценовского «Колокола» и «Полярной звезды». Когда я восстанавливаю в памяти рассказы отца и Михаила ПетровичаСтарицкого, перечитываю их письма и воспоминания, меня не покидает мысль о том, в каком долгу наши ученые, украинские историки перед 60-ми годами. Ведь во многих работах и в разделах учебников, посвященных этому периоду, фигурирует только Петербург — «Современник», «Отечественные записки». Невольно создается впечатление, что движение 60-х годов — дело одного города. А вот что пишет Николай Витальевич в своей автобиографии: «То было как раз время освобождения крепостных из неволи панской, в царствование Александра II, когда вся русская и украинская общественность очнулась от долгого векового сна, азиатского равнодушия общественного, когда она, как бы впервые родившись и протерев глаза, стала прислушиваться к голосу общественного строя, бросилась с детским интересом и энергией к самоуправлению общественному. Неудивительно, что студенческая молодежь с наибольшим рвением откликнулась на все эти вопросы. Наибольшего значения вопросы того времени: уничтожение крепостного права и предоставление человеческих прав «наименьшему брату» — вызвали необходимость проследить и понять жизнь этого брата». Конечно, нельзя ставить знак равенства между студенческими кружками Киевского университета и «Современником», «о верно и то, что 60-е годы в Киеве— и вообще на Украине — заслуживают большего внимания, вдумчивых исследований. …Не только наукой занимались в бурные годы ре формы киевские студенты. То в скромной квартире двух побратимов на Тарасовской улице, то в одной из университетских аудиторий собирается студенческое вече. Тут и поляки в ботфортах и венгерках. На головах — конфедератки, в зубах — носогрейки. Украинцы, «малороссы», в барашковых шапках. Не на шутку разгораются националистические _ страсти, взаимные обвинения. Гоноровитым шляхтичам (были и такие) снова подавай Украину и Киев. Университет тоже считают польским. — Тен университет, — выкрикивает фальцетом франт с подкрученными вверх усиками, — «аш, бо з Вільна пшенесен! Нєх жие Польска от можа до можа![7] — Кто то муви, тен дурень е![8] — гремит весьма внушительно другой студент. И кто-то подхватывает: — Панове, невже й тепер мы не шукатимемо згоды? Невже не доходить до вас остання свята молитва Тараса?[9p>А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай
І братолюбіє пошли.
Тим неситим очам,Земним богам-царям,
I плуги, й кораблі,
І всі добра землі,
І хвалебні псалми
Тим дрібненьким богам.Роботящим умам,
Роботящим рукам
Перелоги орать,
Думать, сіять, не ждать
І посіяне жать
Роботящим рукам.
Н. В. Лысенко, студент Киевского университета (1861 г.). Н. В. Лысенко, студент Лейпцигской консерватории (1868 г.).
Н. В. Лысенко, студент Лейпцигской консерватории (1868 г.).
 Леся Украинка (Лариса Косач). Начало 90-х годов.
Леся Украинка (Лариса Косач). Начало 90-х годов.
 Рабочий кабинет композитора в доме по Мариинско-Благовещенской улице (теперь ул. Саксаганского), № 95, где он жил (1894–1912 гг.) и умер.
Рабочий кабинет композитора в доме по Мариинско-Благовещенской улице (теперь ул. Саксаганского), № 95, где он жил (1894–1912 гг.) и умер.
— И дали мы в ту ночь, — вспоминал Михаил Петрович, — клятву друг другу: жить для народа многострадального, собирать его песни, изучать его слово, помочь ему, светить ему и знанием своим и любовью. Не раз поднимало нас и вниз бросало в житейском море, но клятву сдержали. Несмотря ни на что, сдержали!.. А началось все в Жовнине. И вовсе не так, как представлялось. Наши кузены приехали на каникулы из Киева с ног до головы в национальном — темно-коричневых чумарках, в серых шароварах, полные благих намерений и любви к «меньшему брату». В первый же вечер отправились «на улицу». Украинская речь и простые, «непанские» костюмы панычей, их настойчивое желание «сойтись» с народом кое-кого даже насторожило. Одни считали, что царь за то, что издевались раньше паны над людьми, «переписав при волі й їих у простоту». Другие прямо говорили, что «паны» переоделись в простое и ходят, чтобы подслушать, записать и донести царю на мужика. — Не знаю, как бы и обошлось. Добро, Созонт выручил, и не так Созонт, как приятель его, жовнинский парубок Данило Стовбыр-Лимаренко. Данило «на улице» ходил в заводилах. Поговорил с кем надо. «Товариство» потребовало от нас, как водится, ведро горилки и разрешило бывать на своих сборищах. Микола вскоре стал своим и на «досвитках» и на «вечорницях». То было «для себя» записывал, теперь с иными думами заполнял заветную тетрадь. Собрать, издать бы эти песни! Ведь в них — душа народа, и горе его горькое, и надежда. …Вечер. Над селом застыли зеленые звезды. Молчит «улица». И вдруг ночь разрывается песней. Еще и парубков не видно, а уже доносится издалекаp>Ой, наступала та чорна хмара,
Став дощ накрапать.
Крепнут, наливаются мощью басы:
Ой, там збиралась бідна голота
До корчми гулять.
Поют с задором, с вызовом:
Пили горілку, пили й наливку,
Ще й мед будем пить,
А хто з нас, братця, буде сміяться,
Того будем бить.
Ой, іде багач, ой, іде дукач —Посміхається:
Ой, за що, за що вража голота
Напивається?Ой, беруть дуку за чуб, за руку,
Третій в шию б’є:
Ой, не йди туди, превражий сину,
Де голота п’є!
Ой, не світи, місяченьку,Не світи нікому.
…Не світи нікому.Тільки світи миленькому,
Як іде до дому.
Світи йому ранесенько,Та й розганяй хмари.
Ой, як би ти, дівчинонька,Була богатенька,
Взяв би тебе за рученьку,
Повів до батенька.
Ой, як би я, козаченьку,Була богатенька,
Наплювала б я на тебе,
Й на твого батенька.
Ой, зійди, зійди, ясен місяцю,Як млиновеє коло!
Ой, вийди, вийди, серце-дівчино
Й промов до мне слово!
Ох, і рада б я виходити,
І з тобою говорити,
Так судять-гудять вражії люди,
Хотять же нас розлучити.Ой, не бий, мати, і не лай, мати,
Та не роби каліченьки.
Зав’яжи очі темної ночі
Та веди до річеньки.Ой, світе ясний, світе прекрасний,
Як на тобі тяжко жити.
Ой, ще тяжче молодесенькій
Не нажившись умирати.
* * *Окончен университет. Куда же плыть дальше? Нет, не служебная карьера— обычный путь дворянина «с дипломом», а музыка, служение народу влечет к себе молодого кандидата. Плыл к музыкальному берегу всю свою жизнь. Терпеливо повторял гаммы у панны Розалии, в Киеве у чеха Паночини! быстро подвинулся в развитии фортепьянной техники, еще успешней шли занятия у харьковского виртуоза Дмитриева. Здесь, в Харькове, в доме известного мецената князя Голицына, Микола Лысенко слушал лучших певцов и пианистов, впервые постиг прелесть камерной музыки. Но чтобы осуществить задуманное: собрать, отшлифовать и показать всему свету песни украинского народа, — многого недоставало. В метаниях из стороны в сторону, в учебе без системы мало было толку. Заветной мечтой становится консерватория, а для этого нужны деньги, и немалые. Хочешь не хочешь, а надо служить. Вот что поведал нам о «служебной деятельности» своего друга дядя Миша: — Свалились мы с Софьей Витальевной в Таращу, где Микола наш тянул лямку кандидата в мирового посредника, как снег на голову. Заходим в канцелярию. Смотрим, службист наш как ни в чем не бывало обложился нотными листками, пишет и насвистывает какую-то незнакомую мелодию. Нас и не замечает. Я к нему, ехидно этак: «Похвально, похвально, молодой человек! Вместо того чтобы планы да уставные грамоты составлять, мужицкие песенки, да еще на малороссийском языке, пописываем. Срам, господин Лысенко! Срам!» При первых звуках моего голоса бедный Микола, не разобравшись, кинулся по привычке прикрывать нотные листки объемистым «Проектом уставной грамоты» и… очутился в моих объятиях. — Да вы лучше поздравьте меня, бисови диты, — вырывается Микола. — Насобирал-таки денег. Пусть сгорят хоть все грамоты уставные… Еду… Еду в консерваториюh3> «АНДРИАШИАДА»

«Дела давно минувших дней». — Русификаторы из министерства «народного затемнения». — Князь Ширинский-Шихматов и «Святой Ардалион». — «Народный календарь» Андриашева
И все-таки денег на поездку не хватило. Еще на год растянулись сборы в консерваторию. Тоскливо, медленно, как на волах, потянулись дни в Тараще, которая отличалась от гоголевского Миргорода не больше, чем голова Ивана Ивановича, похожая на редьку хвостом вниз, от головы Ивана Никифоровича (редька хвостом вверх). Одно хорошо — Киев близко. По первому зову и без зова кандидат в мировые посредники бросал никому не нужные «Проекты уставных грамот» и мчался к своим друзьям-единомышленникам, к своей «Андриашиаде». — Дела давно минувших дней, — рассказывал отец полвека спустя, — а ничего не забыто. То-то смеху было. Ну и попало Андриашеву и всей компании русификаторов, подлиз царских! Гимназисты, бывало, на уроках напевали арии из оперы. Не помогал и карцер. Историю «Андриашиады» я не раз слыхал от ее авторов. И всякий раз, как только заходила речь об этой веселой опере, перед нами вставала трагическая тень Михаила Петровича Драгоманова, дяди Леси, — горькая доля эмигранта, десятки лет тосковавшего по родине и умершего на чужбине. — Кому смех, а кому слезы, — говорил отец. Вот как это было. Михаил Петрович Драгоманов со своей сестрой Ольгой Косач жил тогда на Жандармской (ныне имени Саксаганского) улице в одном доме со Старицким. Славная собралась компания. Зимой Николай Витальевич перебрался в Киев, и друзья сходились чуть ли не ежедневно. Засиживались, спорили до петухов. О чем? Конечно, и о музыке и об искусстве. Но чаще всего — о Тарасе и о «младшем брате». — Надо нам нести свет науки в народ, — горячо твердил Драгоманов, — чтобы в каждом селе — школа, просвещенные учителя, чтобы преподавание велось на родном языке. Преподаватель 2-й Киевской гимназии, лектор «временной» педагогической школы, готовящей сельских учителей для Юго-Западного края, талантливый последователь Ушинского и Пирогова, Драгоманов грезил наукой для народа. С глубоким возмущением рассказывал он своим друзьям о царских держимордах — русификаторах из министерства «народного затемнения» (так называл он министерство народного просвещения). Чаще всего попадало в таких случаях попечителю Киевского и Московского учебных округов князю Ширинскому-Шихматову и директору 1-й Киевской гимназии Андриашеву. Товарищ министра сенатор Александр Петрович Ширинский-Шихматов за четыре года своего пребывания в Киеве много сделал, чтобы вытравить «пироговский» дух, животворные традиции педагогической системы знаменитого хирурга и просветителя. Ширинский-Шихматов не отличался ни ученостью, ни даже уважением к науке, зато на всю Россию славился своей фанатической набожностью. В свое время гурман, душа роскошных банкетов, пьяных оргий, охотник до хорошеньких девиц как из «высшего», так и «низшего» света, Ширинский-Шихматов, нежданно лишившись в Вильно всех своих четырех детей (умерли от скарлатины), принял это как наказание божье, стал каяться, поститься, замаливать свои бесчисленные грехи. Во всем «небожественном» (а «небожественными» были Пушкин и Пирогов, Толстой и Менделеев, вся художественная литература и естественные науки) мерещился ему сам обер-сатана со всем своим штатом. Он сократил до минимума преподавание новейшей русской литературы в гимназияхp>Гоголя сожигатель,
Дарвина гонитель,
Сеченова истребитель,
Островского притеснитель.
О, если б я, если б ханом был,Я всем бы вам секим башка ломил,
Отдул бы вас жилами по пятам,
Пригвоздил бы ваши уши ко гвоздям.
Орден мне дадут на шеюИ субсидию в карман,
Орден, орден, крупный орден
И хоть тысячу в карман.
Чи ми ще зійдемося знову?Чи вже навіки розійшлись?
ЛЕЙПЦИГ
Письма с дороги. — «Без языка». — Бой за Шопена и Глинку. — Концерты в Гевандгаузе. — Глазами полтавчанина. — В Праге среди родаков. — «Это духи степи». — Нетронутому полю нужен свой пахарь
«Дорогие голубчики, бесценные мамочка, папочка, Сонечка и Михайло! Вот вчера я вам писал из Киева, а сегодня пишу уже за 128 верст от Киева… Крепко мне взгрустнулось, как труба кондуктора протрубила отъезд, но я оправился, одумался, сообразил, что я же не по неволе еду, а по своему собственному, да еще и заветному желанию…» Так начинается первое дорожное письмо Николая Витальевича. По «собственному, да еще и заветному желанию» Сентябрьским утром 1867 года отправился он в далекий, нелегкий путь. Житомир, Новоград-Волынск, Корец, Ровно, Дубно, Радзивиллов. Сотни верст в дилижансе, утомительная езда в тряской, громоздкой фуре-балагуле. Зато впереди — Лейпцигская консерватория. По свидетельству М. Старицкого, она «тогда считалась лучшей в Европе».
 Кобзарь Остап Вересай и программа славяно-этнографического концерта Лысенко в Петербурге (1875 г.).
Кобзарь Остап Вересай и программа славяно-этнографического концерта Лысенко в Петербурге (1875 г.).
 Поездка с хором по Украине (Полтава, 1899 г.).
Поездка с хором по Украине (Полтава, 1899 г.).
 Хор Лысенко (в центре стоят: М. Кропивницкий и Н. Лысенко; справа от них сидит М. Садовский), Киев, 1880 г.
Хор Лысенко (в центре стоят: М. Кропивницкий и Н. Лысенко; справа от них сидит М. Садовский), Киев, 1880 г.
Выбор на Лейпциг пал и по другой причине. В чемодане молодого фольклориста-музыканта — два готовых к печати выпуска первого сборника украинских народных песен для голоса с фортепьяно. В знаменитой Лейпцигской нотопечатне их можно издать дешевле и лучше, чем где бы то ни было. И об этом думает путешественник, прильнув к слюдяному окошку дилижанса. Плывут навстречу леса, мелькают шлагбаумы, столбы. С жадностью впитывает Микола Лысенко дорожные впечатления: краски, запахи, звуки, лица, яркие, непривычные для глаза одежды, певучий говор… Мысленно слагает очередное письмо-отчет «дорогим голубчикам мамочке, папочке, Сонечке и Михаилу». «Из Житомира начались нам все леса по обоим сторонам шоссе… Я об одном жалел, что довелось ночью проезжать через Корец, очень древнее место, где мне при слабом тусклом свете месяца показывали старинные развалины замка кн. Корецкого, древнего православного южнорусского рода князей, да видел развалины костела доминиканов. Стены, как остовы, чернели, но из темноты вырезывались то арка, то какая-то анфилада колонн, все другие детали стушевались тьмою… Утром, на рассвете, проезжали через местечко Гощу, где с моста на Горыни открывалась бесподобная панорама внизу: полог, прорезанный змейкой Горынью, с сенокосами, нивами, и все это на горизонте окаймлялось одвечными лесами… А народ тут совсем отличный от нашего по костюму. Представьте себе на нем вроде наших кирей[11] долгих, и вся грудь вышита красными шнурками, как на венгерках, и плечи и рукава и разрезы внизу — все окаймлены красными шнурками. На голове тоже конфедератка… 4-х угольная, но углы приподняты и загнуты и посередине шапки небольшая китица… Женщины встречаются очень недурные, но закутываются, как в чадры». …Передо мной тоненькие листики почтовой бумаги, густо исписанные бисерно мелким почерком. Письма — настоящий дневник путешествия и лейпцигского бытия. Сам Николай Витальевич неоднократно повторял, что «чем-чем, а писательским даром всевышний обошел его». И даже в воспоминаниях самых близких друзей композитора никто и словом не обмолвился о пишущем Лысенко. Считалось, что композитор не отличался склонностью к литературному творчеству. Но уже одни письма «лейпцигского цикла» — только малая толика громадного эпистолярного наследия Лысенко — говорят об ином. К сожалению, значительная часть Лысенкового архива погибла в дни гитлеровской оккупации, и все же дошедшие до нас письма, адресованные родным, университетским товарищам, классикам украинской литературы, композиторам, актерам, художникам, историкам, — письма деловые и лирические, спокойные и полные полемического задора, насыщенные то меткими этнографическими наблюдениями, то важными, подчас «ключевыми» теоретическими выводами, составляют два больших тома. Дело, конечно, не в количестве писем, а в том, что письма всегда оставались (на другое и времени не хватало) излюбленным литературным жанром композитора. «Лейпцигские письма» продиктованы нежной привязанностью к родным, заботой о них, но главное не это, а желание Лысенко поскорее подытожить, запечатлеть на бумаге увиденное, услышанное. Его так и тянет описать незнакомую местность, старинные замки, людей, с которыми он встречается, их нравы, язык. «Вчера еще часов в 11 утра я прибыл в Ровно. Повели меня осматривать стародавние развалины замка кн. Любомирского, что стоит тут же близенько на острове… Громадное это здание, видно, великолепно когда-то устроенное, судя по фрескам и богатой, уже наполовину облупившейся, истертой живописи, одиноко стоит себе, как свидетель давней панской славы и произвола… Не стало бы бумаги описывать все». Чем ближе к Львову, к сердцу Галиции, земли единокровных русинов[12], тем громче звучит в письмах голос Лысенко-этнографа. «Оставалось 8 миль до Львова, и я боялся пропустить вечерний поезд до Кракова. Я присматривался к нашему галичанскому люду. Мужчины…особенно молодежь, довольно рослый, статный народ с длинными волосами, падающими на плечи… Уже под самым Львовом и в Львове я встречал парубков в необыкновенно редком костюме — весь синий с красными отворотами, вырезками, с зубцами и проч., а также в голубых шапочках — низеньких, на манер скуфеек, но со сглаженным дном». В самом Львове новые наблюдения — и горечь, боль, вызванная онемечиванием древнего украинского города. «Тут царство объявлений, афиш, всевозможных анонсов, продажа газет, фотографий разных видов. Во Львове только немецкие да польские надписи и вывески, русинской, к сожалению, я сам не видел ни одной. Языка нашего в публичных местах тоже не слышно. Видно, гонение сильное». Из Львова Лысенко уже поездом, впервые в жизни, отправился через Краков, Бреславль, Дрезден в Лейпциг. На границе с Пруссией в ревизионном отделении распаковали его чемодан, осмотрели, — «прусский воин минами потребовал от меня взятку, что я и сделал, и за это наклеил марку ревизионную на мешок, не осматривая его… Тут уже исчезает польский язык — аминь! Все и говорит и молчит по-немецки… Порядок во всем». Все здесь ново, все интересует. Наблюдательный глаз замечает и «тщательно обработанные поля», и «великолепные дороги и шоссе и заводы». Их по всей дороге столько, «что вся местность кругом как бы застлана туманом от дыма. Только и видишь — домики, дома, домищи и трубы, трубы высочайшие — все фабрики!» Дрездена Николай Витальевич не осматривал: так хотелось поскорее добраться до места. И вот 26 сентября 1867 года он уже в Лейпциге, а 5 октября — ученик консерватории. Сначала положение нового студента было весьма грустное — от неуверенности в сколько-нибудь сносном знании немецкого языка. Совестно было даже выходить из своей комнаты: вдруг портье или какой-нибудь слуга обратится с предложением услуг. «Фразу-то сплесть я чувствовал в себе возможность, — жаловался он родным, — но понять это певчее, канальское саксонское наречие при быстроте их разговора — я просто терял веру в возможность достигнуть этого когда-нибудь. Англичане, хоть ты их зарежь, не будут иначе говорить, как по-английски где бы то ни было. До чего этот уважаемый народ сумел высоко поставить себя среди других национальностей и заставить уважать свой родной язык, что даже в консерватории для них был переводчик речи… Нам, не знающим немецкого языка или плохо его понимающим, переводил один из ассистентов на французский язык…» Но свет не без добрых людей, и на помощь студенту пришел кастелян консерватории. В сопровождении его и совершил Лысенко свой «первый выход» — на концерт оркестра. «На эстраде, увитой цветами, — записывает Николай Витальевич, — располагается 40 или 50-душный оркестр, отлично все исполняющий. Но что меня поразило: вхожу в залу, мест нумерованных и чинно в ряд расставленных не вижу. Вижу мириады людей, дам, девиц и проч., сидящих за столами и едящих, пьющих и курящих. Представьте, как я разочаровался. Эта шельмовая публика (правда, все исключительно купечество. Да тут, в Лейпциге, собственно, и нет другого сословия, разве в новом городе через реку) ест и пьет и прегромко разговаривает и смеется, когда ей захочется, во время самого исполнения отличных пьес… Знаете, уровень понимания музыки у нас и тут совершенно один в массе, да у нас чинно слушают подобные вещи, хотя и несознательно, а так принято, дескать». Тот же ангел-спаситель в облике консерваторского кастеляна познакомил Лысенко с учениками консерватории из России. Среди них грузин — студент Московского университета Размадзе. «Тут я отвел душу и мог целый вечер говорить, не стесняясь, — делится своей радостью Николай Витальевич. — Мы уже и не разлучались. Каждый божий день виделись, а вечера проводили поочередно». Показал ему кастелян и музей при консерватории. «Чего я там не видел! Например, факсимиле Гете, Лютера, часть подлинного корана, многие подлинные рукописные памятники 14, 12 столетий и еще глубже. Видел тысячи томов книг в сотнях шкафов и столько редкостей, что и не припомню». Директор консерватории принял Николая Витальевича «очень ласково» — «говорил со мной с полчаса о моей музыке, о сочинениях…» Подробно описывает Лысенко свой вступительный экзамен, обстановку, настроение. «Мы собрались в верхнюю залу, большую, с хорами и эстрадой, с 2-мя фортепиано. Здесь каждую пятницу ученики консерватории играют публично трио, квартеты, соло с оркестром, — вроде недельных концертов и испытаний чисто практических. На авансцене бюст Мендельсона, ученика этой консерватории и так высоко ее поднявшего, что она имеет первое европейское реномэ. Около него по бокам Бетховен, Моцарт, Гендель, Бах, Гайдн, Глюк… Возле меня сидел Рейнеке, знаменитый теоретик и капельмейстер, а по другую сторону доктор музыки Рихтер, замечательный своим учебником гармонии. Я сыграл им Serenade и Allegro giouoso. Рейнеке не дал мне кончить, только выслушал по странице с обеих частей и сказал «гут». А Рихтер, старичок, у которого глубокая ученость даже в лице видна, спросил, в состоянии ли я понимать немецкий язык, чтобы слушать профессора, и знаю ли теорию, — я сказал, что очень мало знаю теорию. Он улыбнулся: «Будет гут. Будем заниматься». И такой внушительный классический тон его речи, медленный, что я все понял». «…У меня по расписанию три учителя фортепианной игры, — замечает Николай Витальевич в другом письме, — Мошелес, Рейнеке и Венцель. Последний, говорят, самый замечательный учитель. Он почти не играет сам, но метод учения гениальный (исключительное умение образно и доступно раскрыть ученику содержание произведения и показать на примерах, как преодолеть технические трудности. — О. Л.). Его сравнивают в консерватории с Шуманом в преподавании». И новая запись: «Сегодня я видел Венцеля. Представьте себе портрет Бетховена с длинными такими же седыми растрепанными волосами». У Мошелеса, друга Бетховена, игравшего когда-то в четыре руки с Шопеном в кабинете Луи Филиппа в Париже, Лысенко должен был только присутствовать на уроках: «слушать и смотреть», что он другим показывает. «Это такой комик, что можно помереть со смеху, как он представляет комически игру разных артистов и в особенности школы Листа. От старости уже руки изменяют. Иную пьесу не в состоянии доиграть и сердится после, что уже «руки не ходят». Но это интересный старик, как современник и друг Бетховена, Гуммеля, Мендельсона, Клементи, и часто о них рассказывает». Рихтера Николай Витальевич характеризует как громкую европейскую знаменитость. «Он носит титул и диплом органиста церкви Петра и Павла… Это живой старичок с седыми кудрями, черными глазами, которыми он в мириадах теоретических этюдов заметит и поймает малейшую ошибочку, а метод чтения — в рот кладет, да и только». Но, отдавая должное маститым профессорам консерватории, у которых «ученость даже в лице видна», рисуя в письмах меткие и выразительные портреты своих учителей, Николай Витальевич в то же время едко и зло пишет о чисто прусской нетерпимости некоторых из них к славянской культуре, о национальной ограниченности тех, кто «Шопена не понимает», «о Глинке и не ведает». Как-то на лекции истории музыки у Бренделя Лысенко и Размадзе обрезали одного немца, с презрением отозвавшегося о музыкальной России: «какая там, мол, может быть музыка». «Ну да и обработали же мы его при всей честной компании, — рассказывал Николай Витальевич. — На что вам старик Брендель, почтенный доктор музыки, — все его лекции наполнены выражениями — немецкий ум, национальность, немецкая гениальность. Все это хорошо и всякому известно, но дойти до такого абсурда, что сказать о Шопене и других славянских музыкантах, что все они писали — крали из немецкой музыки, это пристало только человеку, ограниченному в его национальной глупости». Страстный, порывистый грузин Размадзе, влюбленный в Глинку, в русскую классическую музыку, — не только добрый товарищ, но и единомышленник, союзник на трудном в Лейпциге поприще пропагандирования славянской музыки. «Сегодня, — сообщает Николай Витальевич, — мы с Размадзе знакомили Венцеля с увертюрой Глинки «Жизнь за царя» и «Арагонской хотой». Очень ему понравилось». И во всех письмах, о чем бы в них ни шла речь, слышится один и тот же мотив: работа, работа, работа… Как ни экономит, как ни отказывает себе Николай Витальевич (подчас в необходимом), сбережения его тают, как мартовский снег. Единственный выход — за два года пройти четырехлетний курс. «Занятий у меня столько, что и сказать вам не могу. Каждый божий день я от 8 часов утра и до 10 вечера, кроме лекций, обеда, разумеется, не встаю от фортепьяно, иначе не хватит времени, потому что нужно двум профессорам, Венцелю и Рейнеке, готовить заданное. А больше всего отравляет мое существование прелюдии и фуги Баха, которых я уже восьмеро проглотил, а впереди их еще 88. Это такая подлая музыка (действительно, очень трудная для исполнения. — О. Л.), что ее не раскусишь до тех пор, пока не выучишь, а тогда в состоянии ровно и надлежаще играть и в ту пору так к ней привязываешься, что играешь хоть 100 раз, а тебя так и подмывает сыграть еще 101-й раз…» «Часто, когда фуга не дается играть плавно и безошибочно, я просто в голос ругаю Себ. Баха, так что он поворачивается в своем гробу, а потом самому смешно станет, из-за чего таки Баху было бы улегчать исполнение фуги на том основании, что будущему Николаю Витальевичу придется трудно ее одолевать. На этой мысли примиришься и дальнейшим штудированием-таки оборешь ее, — вода, как говорят,камень долбит». «Истинная услада среди трудов» — концерты в Гевандгаузе[13], благо на генеральные репетиции оркестра учеников консерватории пропускают бесплатно. Лысенко и Размадзе, два неразлучных друга, забираются на хоры и три часа затаив дыхание слушают… Концерты — по четвергам. «Сегодня исполняли симфонию Моцарта, увертюру Раффа к мейерберовским «Гугенотам». Это бесподобная штука. Затем оркестр исполнял несколько отрывков из бетховенского «Прометея», такая свежая, простая гениальная мелодия, до слез хорошая… И, наконец, еще концерт Шумана для фортепьяно с оркестром исполняла какая-то юная артистка… К каждому четвергу есть новый артист или певица. Все они считают священным долгом перебывать каждый сезон в Лейпцигском Гевандгаузе. Прошлую среду играли 4-ю симфонию Бетховена… А в этот четверг симфонию Шумана. Что это за оркестр, если бы вы слышали, когда профессора играют (Давид первую скрипку). А духовые как серебро. А какие нюансы целый оркестр делает. Боже мой! Волосы кверху лезут! Концерт как иголочка!» — не перестает восхищаться Лысенко. «Сколько в последнее время было концертов! Каждый день буквально, и все знаменитости. Приезжала Клара Шуман из Дрездена с великолепным певцом Штокгаузом. Были и гобоисты и тромбонисты и знаменитый флорентийский квартет струнный, Петерса кажется, где исполнение доведено до непостижимого совершенства». «Был тоже в замечательном концерте в пользу фонда пенсионного для семейств музыкантов. Играл приезжавший Таузиг из Берлина, страшные вещи по трудности: фантазию Листа из Дон Жуана, полонез, ноктюрн и чертовский этюд в терциях Шопена. Не то мы, а профессура рты по-раскрывала и только плечами пожимала в знак сильного изумления. Играл Давыдов из Москвы, первый теперь европейский виолончелист, свой концерт с оркестром и фантазию. Великолепно играет. Второе отделение занимала громадная симфония Берлиоза «Гарольд в Италии», от которой я остался просто без ума. Такое потрясающее впечатление производит эта удивительная оригинальность, эта колоссальность оркестровки и образность ее». С молодой ненасытностью «глотая» концерт за концертом, порой буквально захлебываясь от новых музыкальных впечатлений, Лысенко плывет к своему берегу, явно отдавая предпочтение естественности, прямоте, народности. Восхищение вызывает услышанная им впервые опера «Фиделио» («Леонора») Бетховена: «Что это за божественная музыка — детски природная. Казалось бы, нашим ушам, с юных лет привыкшим к музыкальным эффектам, подобная, без всяких фейерверков музыка должна бы казаться жиденькою, простою, — но в том-то и сила гения, что при такой абсолютной простоте вы постоянно напряжены к прелестям мелодий и такой силы чуда оркестровки, какая может быть только у Бетховена». В Лейпциге начинающий композитор впервые познал и на всю жизнь полюбил органную музыку. «Был я в знаменитой по старине «Thomas Kirche»[14], той самой, где Бах был органистом. Огромное, мрачное, с черными стенами здание наподобие дома, с длинными страшно и узкими окнами, крутою крышею и высокой шпицеобразной колокольней. Тут каждую субботу, от половины 2-го часа, сбегается весь музыкальный Лейпциг послушать огромный хор мальчиков, поющих с органом. Но что эго за пение божественное, и поют все хоры Баха, Бетховена, Рихтера, Рейнеке и других знаменитостей с органом». Как ни увлекается своими занятиями, музыкой, концертами студент консерватории, в письмах из Лейпцига снова все чаще пробивается голос бытописателя. В метких «уличных» сценах, в описаниях студенческого житья-бытья восторженная романтическая приподнятость уступает место мягкому, чисто украинскому юмору. Так и выглядывают из этих писем наблюдательные со смешинкой-хитринкой глаза полтавчанина. «По поводу моих жалоб на худой корм вы пишете, чтобы я заказывал себе обед сытный, сходный славянской натуре. Все можно, только не последнее. Что же тут выдумаешь, когда немцы нашего борща, каши и других таких утешительных блюд не знают, когда у них не только рот, но и ухо не привыкло к таким названиям, а не то блюдам…» И тут же, добродушно посмеиваясь, сообщает, какой переполох произвели в Лейпциге неожиданные морозы. «Немцы за голову хватались, что такой холод, и еще потому, что почему-то у них подошвы щекочет смерзшийся снег под ногами (таких курьезов я никогда не слыхал). Тем не менее приветливо встречали зиму, катаясь в своих длиннообразных санях, где кучер сидит сзади седоков и оттуда правит так, что вожжи ходят мимо вашего лица (это тут такой способ езды на санях), и в это время неистово ляскает бичом». Не таким уж трудным, каким рисовалось вначале, оказалось для Николая Витальевича и «канальское саксонское наречие». Теперь, уже «с языком», он чаще общается с хозяевами своей квартиры, бывает у них на вечерах, завязывает новые знакомства, особенно в консерваторских кругах, свободнее чувствует себя на лекциях, на шумных в праздничные дни улицах Лейпцига. «Я и забыл вам сказать, что Лейпциг недавно отбыл свой карнавал. Тут уж второй год немцы устраивают настоящий венецианский карнавал… Старый и малый ходят в дурацких разноцветных шапках и костюмах по всему городу, публика обсыпается горохом, мукой, рваными бумажками. Но великолепен «цуг» из 60-ти номеров. Впереди огромная кавалькада рыцарей в средневековых костюмах и забралах и проч., за ними принц и принцесса карнавала, которых привозят за три дня в Лейпциг и устраивают им великолепный прием… Особенно был интересен Наполеон (маленькое туловище и огромная голова) со странствующей кибиткой, везомой двумя собаками, предлагающий фотографические услуги, и Бисмарк на огромном возу сена, где повтыканы дощечки с надписями: Ганновер, Гольдштейн, Мекленбург (немецкие земли. — О. Л.), словом сказать, весь теперешний северо-немецкий союз, над которым он властвует». Вскоре, однако, случилось событие, на время вытеснившее Лейпциг из писем Николая Витальевича. С нескрываемой радостью пишет он родным: «До сих пор вы уже должны получить мое неожиданное письмо из Праги, куда ездил на праздниках играть в концерте Славянского…[15] Весь успех игры и восторг публики и профессоров консерватории в «Умелецкой беседе»[16] при исполнении наших мало-русских мотивов, мною обработанных, я вам описал в том письме. Повторяться и хвастаться дважды не годится. Теперь я вам посылаю критику этого концерта из австрийской газеты… Это, так сказать, моя гордость, которую я не постыдился показать моим профессорам фортепьянной игры Рейнеке и Венцелю. Эта рецензия им очень понравилась, так что Рейнеке стал теперь давать мне Шопена и хорошенько муштрует меня, не пропуская ни одного нюанса. Славянский обещал еще прислать и чешскую рецензию в «Народни листы». Я ужасно вообще доволен, что сия оказия поездки в Прагу подскочила, да еще к праздникам. Я себя чувствовал там почти как дома, выбравшись из чисто немецкой атмосферы на славянский родной воздух». С горячей симпатией встретили чехи выступление Лысенко — «звуки с Украины, не слыханные доселе, хотя родные, звуки как будто знакомой песни». «Это духи степи!» — воскликнул известный чешский музыкант Рейер, слушая песню «Гей, не дивуйте». В ближайшем письме обещанный пересказ рецензии из чешской газеты «Народни листы». «Там рецензент говорит обо мне и моих песнях много приятных речей. От имени слушавшей публики говорит он, что богатырский характер запорожских мелодий и изумительный огонь козаков (танцев. — О. Л.) имеет для них (чехов) нечто сильно близкое и трогающее сердце. И что, мол, изданием этих песен (как они от меня слышали) я поистине обогащу славянскую литературу. Не знаем мы (говорит он) пойдет ли г. Лысенко по пути исполнителя-пианиста, но каждому из нас кажется, что суть самая лежит в его композиторском таланте и что мы возлагаем — немалую надежду на успех славянской музы. Таков панегирик приятно мне было прочитать. Господь знает, может в нем много лишнего сказано, может надежды любезных родаков и призрачны и несбыточны, но тем не менее я не могу скрыть удовольствия от подобных резенций самого музыкального народа Европы». «Суть самая в композиторском таланте!», но ведь еще совсем мало создано. Правда, собраны, записаны и обработаны десятки народных песен. Ему, народу, обязан он своим успехом в Праге. С подобной ли живостью, простотой, сердечностью зазвучит его собственный голос? Не вернее ли прислушаться к советам консерваторских профессоров? Все они прочат блестящее будущее пианиста-виртуоза. А ведь тянет и к творчеству и к исполнительству, хотя это две разные задачи. «Зачем же не обладать ими обоими, когда есть случай, возможность и уменье. Одно другому не должно мешать, — делится Микола Лысенко раздумьями, навеянными рецензией. — Само по себе, что я не увлекусь одной узкой стежкой исполнителя, чтобы изучать и исполнять все лишь чужие произведения, когда мать природа дала и мне возможность и дар творить». Залетело и во Львов доброе слово рецензента из «Народни листы». «Из Львова, — пишет Николай Витальевич, — прислали мне… стихотворение Шевченко «Заповіт» с просьбой положить его на музыку, так как они, судя по лестным отзывам чехов о моей обработке, не находят, к кому бы более можно было обратиться, как не ко мне. Эта работа уже почти окончена, и на днях я ее пошлю…» Теперь почти в каждом письме — упоминание о новом произведении, создаваемом или уже законченном композитором. «…Несколько дней назад я написал маленькую вещицу. Взял тему «По малу-малу, братику, грай» (украинская народная песня. — О. Л.) и обработал ее в форме классической куранты, древнего танца, который, как и другие старые танцы, получил классическую форму. Вещичка (часть будущей сюиты на темы украинских народных песен для фортепьяно. — О. Л.) сделана, кажется, не погано… Я ее написал даже не за фортепьяно, а за моим рабочим столом». Новые обработки народных мелодий для фортепьяно, первый цикл из «Музыки к Кобзарю» Шевченко, симфоническая увертюра на тему «Ой, запил козак, запил», 1-я часть симфонии, струнные трио и квартет — все это создано вскоре после Праги. Знаменательно, что, пребывая далеко от родины, слушая и впитывая в себя совершенно отличную по своему содержанию, по интонационным особенностям музыку, Николай Витальевич не отрывается в своих произведениях от родной почвы, используя для них как основу народную украинскую песню. Именно в Лейпциге он пришел к твердому убеждению, что национальное музыкальное творчество на Украине иначе и немыслимо, как на народных основах, в противном случае оно даст только «блеклый цвет с иностранными румянами». Народная основа… Народные песни, исторические, бытовые, жовнинские, гриньковские — они все еще лежали в дорожном чемодане. Своих денег на издание не было, а приятели с Украины, товарищи по университету, словно забыли о нем, хоть не скупились раньше на обещания. «…Я хотел поговорить насчет песен. Результатов от киевской братии я почти и ожидал таких. Где же эти крикуны, вещатели, как Косач[17], вызвавшийся дать денег на печатание, — возмущается Николай Витальевич. — Другие, понятно, могли только обещать. Но Косачу и Лашкевичу положительно не простительно не помочь в этом случае средствами, совершенно и верно гарантированными. Да куда же им, холостякам, девать свое содержание… Что же касается меня, то, ради бога, войдите в мое положение, — могу ли я со своими тонкими средствами раскошелиться на 300 талеров… Они, киевляне, только заподозревают во мне тут чувство скупости, не соображая дальше ничего. Будто также не дорого моему сердцу, чтобы мой труд… разошелся, раскупился и доставил бы некоторое удовольствие публике, ценящей честно собранное и с толком обработанное народное достояние…» Потеряв в конце концов надежду на помощь приятелей, Николай Витальевич решился на риск. «Песни я свои отдал вчера. Редер [18] обещал к июню все напечатать… Но денег ни Косач, ни другие — никто не высылает. Напишите Стаховскому[19], чтобы торопился высылкой 200 моих рублей, а не то мое положение поганое перед знаменитой фирмой Редера — отдать в печать и не уплачивать. Сегодня получил письмо, что А. А.[20], голубчик, собирает деньги на печатание моих песен. Спасибо им, щирим людям, — когда бы все были такого сердца, то еще бы как-то свободнее жилось». Первый выпуск сборника украинской народной песни для голоса с фортепьяно в обработке Лысенко, наконец, после долгих мытарств (петербургская цензура, прусская таможня) попал на родную землю. А киевские товарищи и тут не спешили. «Недавно получил из Киева пространное письмо, из которого оказывается, что песни лежали полтора месяца в Киеве у Новицкого (товарища по университету. — О. Л.), и он, видимо, по привычке не раскупорил тюков, чтобы узнать, что прислано, несмотря на неоднократные расспросы. Хлопочите о распродаже, чтобы не сесть на мель». И все чаще упоминается в письмах Николая Витальевича милая родина, родная Полтавщина, куда его неудержимо тянет. «Жду не дождусь лета, все мне кажется, что вот-вот скоро выеду… в родную краину, а как перечтешь по пальцам, что ждать еще полфевраля, март, апрель, май, июнь… то аж холод проймет такой, снова грусть воцарится на моем и без того не веселом лице. А ведь учиться нужно. Нужно же что-нибудь из себя в жизни устроить. Служивым быть, кажется, не моя колея, педагогом — тоже нет, разве музыкальным педагогом, да если бог укажет и обнаружит, что есть талант — то писать, но не контрапункты, которые пишут теперь, а вещи, на основании их изучения созданные с характером и духом, какой по сердцу и голове». Занятия в консерватории шли своим чередом. В переводном свидетельстве, выданном Н. В. Лысенко 27/15 апреля 1868 года, читаем:
Год спустя на выпускных экзаменах Николай Лысенко покорил своим проникновенным виртуозным исполнением пятого концерта Бетховена. Об экзамене Николай Витальевич упоминает в письме скупо. Куда щедрее оказался «Leipziger Tageblatt» в номере от 10 апреля 1869 года: «Игра г. Николая Лысенко из Киева была поистине замечательной. Первую часть труднейшего фортепьянного концерта Бетховена он провел вдохновенно, с настоящим артистическим совершенством. Блестящая каденция принадлежит, как мы слышали, самому исполнителю. Она оказалась, несмотря на свои (большие) размеры, вполне соответствующей духу сочинения и вызвала бесконечные рукоплескания». Триумфальные выступления Лысенко в Праге, отличные рецензии, успешные выступления на консерваторских вечерах и экзаменах подогрели интерес профессоров к молодому исполнителю. Профессора все упорнее толкают своего воспитанника на путь пианиста-виртуоза. «Рейнеке и Пауль спрашивали меня, куда же я хочу совершить свое музыкальное путешествие (артистическое), в Бреславль, или Вену, или Варшаву. Я, не имея, разумеется, о себе столь высокого мнения, чтобы решиться играть концерты в Европе, отвечал, как средства позволят. На это говорит он, что этому горю еще, может быть, и помочь можно будет, устроив частный концерт, где бы я и заявил себя и собрал бы денег. Эта мысль и великолепная, но меня больше радует такое отличное мнение о моей игре, достойной концертов на европейских эстрадах». Почему же не прельстило Миколу Лысенко блестящее будущее европейского концертанта, громкая известность, слава виртуоза-исполнителя? Как-то в разговоре я коснулся этого, и вот что сказал мне отец: — При своей воле и любви к работе я мог добиться если не блестящего, то хорошего, прочного положения в исполнительском свете. Это я понимал. Но знал и то, что моя родная музыкальная культура — еще не тронутое никем поле. Этому полю нужен был свой пахарь и сеятель. Ему я задумал посвятить свои скромные силы. Родные не стали противиться его решению, а киевская братия возликовалаh3> «ГДЕ МОЕ, ГДЕ НЕ МОЕ»«ТЕОРИЯ МУЗЫКИ И КОМПОЗИЦИИ»:
Д. Паперитц — Н. Лысенко — старательный ученик, успевает очень хорошо. Е. Рихтер — С любой точки зрения — прекрасный ученик.ФОРТЕПЬЯННАЯ ИГРА:
К. Рейнеке — Н. Лысенко — один из самых старательных и талантливейших учеников. Е. Венцель — Н. Лысенко — один из моих одареннейших учеников, проявляет образцовую старательность и успевает уже прекрасно».

В Киеве. — Поездка в славянские земли. — Знакомство с Вересаем. — «Рождественская ночь». — «Учиться никогда не поздно и не стыдно»
Закончив Лейпцигскую консерваторию, Микола Лысенко навсегда поселился в Киеве. Потомственный дворянин окончательно превращается в разночинца, учителя музыки, зарабатывающего на хлеб своим трудом. Зато с какой страстью отдается он в часы, свободные от уроков, любимому делу — дальнейшему накоплению и обработке народных музыкальных материалов для новых сборников украинских песен; организует хоровые концерты, сам выступает как пианист-виртуоз. Лето 1873 года застает Лысенко в Карпатах. Лебединый крик трембиты, гуцульские коломыйки, похоронный плач, свадебные обряды — все волнует, все так и просится на нотную бумагу. И снова манит, зовет дорога, белые неразведанные пятна на музыкальной карте славянских народов. В Сербии что ни село, то настоящий клад — нетронутые залежи славянского мелоса. «Из всех славянских народных песен по духу, концепции мелодии, рисунку, а главное, по музыкальной декламации к украинской народной песне ближе всего сербская народная песня, — отмечал Николай Витальевич в своем известном реферате «Характеристика музыкальных особенностей мало-русских дум и песен, исполняемых кобзарем Вересаем». — Записанные мною и А. А. Русовым[21], в нашу поездку нынешним летом по славянским землям, мелодии, особенно исторические, в Белграде и Иреге (в Среме), очень близки к типу нашей исторической думы, чумацкой песни и даже свадебной. Замечательно красива и типична песня «Гусле моjе»…». Реферат Лысенко, первая большая теоретическая работа о музыкальных особенностях украинских дум, имеет свою историю. О знакомстве с Остапом Вересаем, знаменитым кобзарем, отец вспоминал часто и всегда с гордостью. Сын крепостного слепого скрипача, Остап Вересай, тоже слепой с детства, десятки лет странствовал с кобзой по селам и местечкам Украины. Народ полюбил его думы, исторические и сатирические песни, шутливые напевы и танцы. Сотни мелодий, тысячи строк хранил он в памяти. Лысенко давно мечтал о встрече с этим «гомером среди гомеров украинских». Лето выдалось для него поистине счастливым: после Гуцульщины, Сербии — Вересай! Они встретились в Киеве. Мастерская игра, неповторимый по своей задушевности драматический тенор, мимика, жесты Вересая потрясли членов Географического общества. На одном из заседаний Юго-западного отделения общества и выступил со своим рефератом Микола Лысенко. — Народные думы и песни в исполнении Остапа Вересая не забава, не развлечение, это живая музыкальная летопись национальной истории Украины, летопись, которую необходимо сберечь от холодных рук «заезжих музикмейстеров», сохранить для грядущих поколений. Страстно отстаивая эту мысль, раскрывая своеобразные национальные черты народного творчества, Микола Лысенко в то же время приходит к выводу, что «в музыке, как и в других отраслях культуры, взаимодействие духовного богатства русского народа на севере и юге — одно из условий несомненно великой нашей музыкальной будущности». Народное творчество — хлеб и воздух самобытного композитора. Думая об этом, Лысенко вновь обращается к России. «С Серова… упрочилось серьезное значение народной музыки. Великий Глинка, еще ранее внесший в свои бессмертные произведения характер и особенности народной великорусской песни, а за ним вслед целый ряд талантливых художников, работающих на родной почве, закрепили такое серьезное значение за северной (читай: русской. — О. Л.) мелодией». Север, Россия, Петербург — эти слова в 70-х годах все чаще встречаются у Николая Витальевича. Сказались тут и глубокие раздумья о судьбах и фольклоре двух братских народов и, безусловно, работа над комико-лирической оперой «Рождественская ночь». В «Рождественской ночи» отразились не только творческие поиски, рост Лысенко-композитора, но и вся история украинского театра. — Не один пуд соли мы с Михайлом съели, не один воз бумаги перевели, — вспоминал отец, — пока добрались до гоголевской «Рождественской ночи». Говорилось это шутя, но здесь была доля правды. Первые оперные замыслы Лысенко, как и широко задуманная историческая опера «Гаркуша», не были осуществлены. Опера «Андриашиада» — произведение пародийное и неоригинальное. Музыка, созданная молодым композитором к водевилю «Простак» Гоголя-отца и к пьесе Котляревского «Москаль-чаривнык» — только первые ступени к оперному жанру. «Черноморцы»[22] не выходят за рамки традиционного украинского музыкально-комедийного спектакля, оперетты. «Рождественская ночь» в первой своей редакции — тоже оперетта, в двух действиях. Лысенко и Старицкий (автор либретто) могли рассчитывать лишь на любительскую сцену: профессиональный театр на Украине только зарождался. Вот почему в первой редакции все события сводятся к сценам в хате Чуба и Солохи. Однако оперетта все меньше удовлетворяла Миколу Лысенко и его побратима. Они, как и в юные годы, мечтают о настоящей опере, не только бытовой, комедийной, но и (прежде всего) героической. Вот почему во второй редакции (1873–1874) двухактная оперетта перерастает в музыкальную комедию на четыре действия и пять картин, а гоголевский Пацюк, лентяй и обжора, неожиданно для зрителя превращается в героя-патриота, последнего рыцаря запорожской вольницы. Пацюк скорбит о судьбе родной Украины, осуждает предательство старшинp>Старшина панує,
і в кріпацтво козаков рабує (силой обращает).
Кому ж до вподобиЦі брови, ці очі,
Ще чорні, як терен,
Темніші від ночі?
Я зовсім погана!О, ні! Я хороша!Пишаю красою,
Як квіточка вранці
Умита росою.
ДВА ПЕТЕРБУРГА
Соляный городок. — Под окнами Третьего отделения. — Поет Остап Вересай. — Следами отца. — У Римского-Корсакова. — Квартира Лысенко. — Михайловский дворец. — История одного фото. — Театральные впечатления
«Соляный городок» — и сейчас дорогое мне, милое и смешное воспоминание детства. Я в кабинете отца. Притаился в мягком кресле, рад, что взрослые не замечают, не гонят спать. — Славянский концерт в Соляном городке. — Удивительный случай в Соляном городке. Что-то оживленно рассказывая дяде Мише, отец, словно за дирижерским пультом, подкрепляет отдельные слова скупым, энергичным взмахом правой руки. Закрываю глаза, и Соляный городок плывет мне навстречу сказочным дворцом. Весь из соли, сверкает, переливается цветами радуги. Незаметно засыпаю. И заботливые руки отца переносят меня из кресла в волшебный соляный замок… Тайна Соляного городка манила и мучила меня долго, пока однажды я не вытерпел: — Дядя Миша, как это из соли городок строят? Сколько чумацких возов соли понадобится для такого чуда? Я очень обиделся, когда Михаил Петрович ответил на мой вопрос гомерическим хохотом. Шли годы, и рассыпался, развеялся, как дым, сказочный дворец моего детства. Со временем Соляный городок предстал предо мною в ином, более прозаическом свете и… стал мне еще дороже. С ним тесно связана музыкально-общественная деятельность Николая Витальевича в Петербурге. — Задумал я, — вспоминал отец, — дать несколько украинских и западнославянских концертов. Николай Андреевич[23] горячо поддержал затею, благословил на святое дело. Он же и указал мне на Соляный городок, где рядом с торгово-промышленной выставкой, в большом зале Педагогического музея, читались публичные лекции, проводились общедоступные концерты. На первый мой зов с радостью откликнулись земляки, студенты, мелкие чиновники, заброшенные на Север «по воле рока». Они-то и образовали костяк, ядро курсов хорового пения в Соляном городке. Руководили курсами я и В. М. Пасхалов, талантливый музыкант-дирижер. Вскоре хор пополнился русскими студентами, которые без особого труда овладевали мелодичным певучим языком Украины. Интерес к хору, его репертуару объяснялся и тем, что многие молодые люди участие в нашем хоре воспринимали как свое пусть скромное, но все же «хождение в народ», очень тогда популярное среди студентов. Отец с наслаждением рассказывал, какие «песенные походы» устраивал его хор перед Третьим отделением. «Походы» эти — великолепная иллюстрация к настроениям тогдашней демократической молодежи. Пресловутое Третье отделение канцелярии его величества находилось неподалеку от Соляного городка. И участники хора «репетировали» чуть ли не под самыми окнами грозного учреждения. Репертуар подбирался заранее. Пели «За Сибиром сонце сходить», «Стеньку Разина», «Дубинушку». Впереди «со щитом» — официальной гербовой бумагой — шествовали Лысенко и Пасхалов, по очереди дирижируя хором. Это было внушительное зрелище — сотни юношей с «Дубинушкой» у Третьего отделения и на Литейном. На Невском хористов обычно останавливали столичные держиморды. Тогда-то и вступал в силу стратегический план. Все разыгрывалось как по нотам. По команде хоровая толпа, как один человек, тут же усаживалась на тротуары и мостовую и что есть духу затягивала «Гимн»[24]. Любо-дорого было видеть, что делалось в эти минуты с «духами»-полицаями. Выпучив глаза, подняв руки под козырек, они, окаменев, стояли истуканами до тех пор (хор старался вовсю!), пока исполнялся гимн. — Признаться, — говорил отец, — очень я волновался и беспокоился накануне первых выступлений в Соляном городке: поймет ли петербургская публика украинский репертуар? А тут с каждым концертом народу все больше: мастеровые, солдаты, наш брат музыкант. Поняли, полюбили и слово наше задушевное и красу нашей песни. Как это часто бывало, когда разговор касался его успехов, отец незаметно переключался на шутливый тон. — Начали о нас в газетах писать. Словом, прославился. Даже извозчики стали узнавать. Привез меня старичок один в Соляный городок. Достаю мелочь, чтобы расплатиться, а он: «Премного благодарим, господин Лысенко, только деньги мне с вас вроде и совестно брать. Намедни слушал ваш хор. Молодцы! По-нашему поют, с душой. Премного вам за пение благодарны». Упрямый такой старичок: «Вы, — говорит, — не сумлевайтесь, я свое с другого барина возьму». А от моих денег отказался. Таков он, мой первый и, кажется, единственный гонорар за Соляный городок. По рассказам отца, особенно популярными стали его концерты с приездом Остапа Вересая в марте 1875 года. Приглашенный в Петербург этнографическим отделением Русского географического общества, семидесятилетний старец, слепой, одинокий в огромном шумном городе, сразу потянулся к Лысенко, своему земляку. «Певец — слепой семидесятилетний старик привлекает к себе невольное сочувствие, а его пение, отличающееся особенной страстностью и глубоким задушевным чувством, производит сильное впечатление на слушателей», — так писала одна из петербургских газет, отдавая должное своеобразному таланту «южнорусского» бандуриста. Помню, с каким восхищением отец говорил об исключительной выносливости, трудоспособности слепого старца. Вересай пел почти ежедневно. В клубе художников, в Этнографическом отделении и в Зимнем дворце (Александр II, надеясь по-своему использовать идеи славянского единства и стремясь нажить на этом политический капиталец, «высочайшим повелением» пожаловал Вересаю табакерку). Несомненно, наиболее одаренный среди своих собратьев кобзарей и лирников, Остап Вересай полвека вел такой же образ жизни, как и вся многочисленная армия народных певцов-музыкантов. В распутицу и в летний зной, в метель и под холодными осенними дождями брел он по бесконечным дорогам Украины от села к селу, от ярмарки к ярмарке. Слепой, он видел много горя на своем веку, немало обид за себя и за людей накипело в нем, и когда он пел в сопровождении кобзы и слезы текли по его высохшему неподвижному лицу, людям казалось, что это их горе горькое поет и плачет. Два Петербурга — один вельможный, светский, холеный, воспитанный на французской опере, на французском балете, другой — труженик, демократ— по-разному отнеслись к Остапу Вересаю, по-разному оценили его. Отец выступал вместе с Вересаем. Он хорошо понимал, что интерес аристократического Петербурга к народному певцу подогрет и вызван «царскою милостью». Завсегдатаи лож и партера смотрели на кобзаря как на «южнорусское диво, археологическую редкость». Во всем остальном он оставался для них простым мужиком, бродягой, нищим. Отсюда их отношение к Вересаю — смесь любопытства с плохо скрываемой брезгливостью. Весь облик и хрипловатый голос старца (куда этому мужлану до Италии!) раздражали их. Равнодушные лица-маски, ядовитые реплики по-французски — все говорило, что пребывание знати на концерте лишь дань двору, моде, сенсации. Зато какой успех ждал Вересая в Соляном городке на первом славяно-этнографическом концерте, организованном Лысенко! В думе «Бегство братьев из Азова» воскресала многострадальная история Украины. Кобзарь покорил огромную аудиторию мастеровых, студентов, рабочих. Долго-долго Петербург-труженик, Петербург-демократ рукоплескал народному певцу. На этом концерте выступал и Лысенко как дирижер хора, композитор и исполнитель. Небольшой, но слаженный, дружный хор пел украинские, русские, сербские, моравские и чешские песни. Публика без конца вызывала Лысенко и Вересая. — На концерте, — рассказывал Николай Витальевич, — был и мой учитель Римский-Корсаков. Пение Вересая глубоко взволновало его, а я под свежим впечатлением вересаевских дум занялся первой фортепьянной рапсодией. Вспомнились Днепр Славутич, степи Полтавщины, кобзари, лирники на пыльных дорогах и шумных живописных ярмарках. И такая тоска взяла меня по родному краю, что как-то само собой зазвучало все то, что тогда наполняло мою душу. Много лет спустя, в глухое столыпинское безвременье, очутившись в Петербурге, я посетил Соляный городок. Увы! Тут все изменилось. Над городком незримо реяли черные тени Столыпина и Победоноцева. В зале, где когда-то звучала песня отца, где из дум Вересая вставала гневная, бунтарская, непокоренная душа народа, было особенно нестерпимо, до боли обидно слушать призывы черносотенных громил «огнем и мечом» карать красную крамолу, убивать, как гиен, окаянных бунтовщиков, врагов царя и православной церкви. Казалось, это дурной сон, казалось, что злые духи, как это бывает в сказке, вот-вот развеются, сгинут с глаз, и снова, бережно поддерживаемый моим отцом, выйдет на эстраду старый кобзарь, и зазвучит неповторимый речитатив Вересая, его хватающий за душу голос. Тогда же решил я пройти «по всем Лысенковским местам» старого Петербурга.
* * *
Отец не был студентом Петербургской консерватории в обычном смысле этого слова. «Николай Витальевич одно время (недолго, правда) учился у меня, или вернее — приносил просматривать в класс свою «Різдвяну ніч», — весьма определенно высказался по этому поводу Римский-Корсаков в беседе с В. В. Ястребцовым. «Способен. Успехи есть. Весьма способен», — так аттестует он своего не то студента, не то слушателя. Не без волнения осматривал я дом, где жил Николай Андреевич и куда не раз отец приносил партитуру своей первой оригинальной оперы «Рождественская ночь». Здесь он подарил своему учителю только что отпечатанный в Петербурге сборник детских и девичьих песен («Молодощі»). Отец явно гордился тем, что некоторые мелодии «Молодощі» с такой силой зазвучали затем в «Майской ночи» Римского-Корсакова. Он говорил мне, что Николай Андреевич уже в 70-е годы был горячим поклонником и ценителем украинского музыкального фольклора. Корсакова больше всего интересовали обрядовые песни — веснянки, купальские, колядки, щедривки. Он часто заводил разговор о ладово-интонационной структуре украинских обрядовых песен, подробно расспрашивая о местностях, где народные мелодии сохранили свою первородную свежесть. Тут-то и пригодились отцу «фольклорные экспедиции» по Полтавщине (Гриньки, Липове, Жовнин), записи обрядовых песен. В доме Римского-Корсакова Лысенко встречался с Бородиным, Мусоргским. Всех их тогда живо интересовали программы славяно-этнографических концертов. Отец часто вспоминал свою петербургскую квартиру, где он прожил два года — годы учебы, труда и вдохновения. В один из декабрьских дней, незадолго до рождественских праздников, я оказался на Александрийской площади в доме № 6. Неудобно стучаться к незнакомым людям, но желание увидеть комнату отца взяло верх. Как и надо было ожидать, никто из жильцов 52-й квартиры не помнил Лысенко. Прошло больше тридцати лет. Однако по описаниям отца я быстро нашел небольшую комнату, выходящую окнами на площадь. Все в этой комнате было мне знакомо: и сиреневые обои и старинный рабочий стол с конторкой. Не было только рояля, за которым «родились», как сказал бы отец, первая украинская фортепьянная рапсодия, два полонеза, концертный вальс и фрагменты оперы «Маруся Богуславка». Не одну ночь провел здесь Микола Лысенко в окружении своих любимых героев. Из глубин столетий, из турецкой неволи являлась ему Богуславка. В рубище, в цепях, но непокоренная, как мать ее Украина. Вихрем мчался на степном скакуне бесстрашный казак Голота. То лихо плясали, то бросались в смертный бой его побратимы. Все это оживало в звуках, лепилось нотными знаками на бумагу. Телом жил он в этой комнате, а душой, помыслами, горячим сердцем — «на Вкраїні милій», среди измученного народа. И так и сяк гнули паны народное древо, а оно гнулось, да не ломалось… «Как ни гнети дуб, а он все вверх растет». И люди жили с надеждой и верой — «заглянет солнце и в наше оконце». В 70-е годы консерватория располагалась в музыкальных классах Михайловского дворца. Я знал, что отец бывал там и позже, когда во дворце был открыт Музей русского искусства. Михайловский дворец, весь какой-то легкий, воздушный, поражал благородством и простотой линий. По бокам широкой лестницы вечными стражами застыли мраморные львы, до того добродушные, что хотелось их погладить. Мне не удалось, уже не помню, по какой причине, увидеть бывшие музыкальные классы, где учился Лысенко. Зато с русским живописным искусством я познакомился тогда основательно. В нашей переписке с отцом и в «петербургских разговорах» музей занимал важное место. Вспоминаю, что академическая живопись, огромные картины на мифологические и библейские темы, виртуозно написанные знаменитыми мастерами первой половины XIX века, оставляли отца равнодушным. Я не раз, и всегда без успеха, спорил с ним на эту тему. — Мастера большие. Тут ничего не скажешь. А вот души народной, русской в этих картинах не вижу. Светят, да не греют. Холодно мне от них. Что ни говори, Остап, а «Бурлаки» Репина мне во сто крат дороже. В них и стон бесконечный, и удаль, раздолье русское, в них многострадальное Сегодня и Завтра народа нашего. Навсегда покорил отца могучий талант Репина. — «Запорожцев» ощущаю физически, — как-то заметил он. — Не картина, а готовое либретто для оперы. Какие характеры! Какие типы! Один писарь чего стоит. Такой из пекла и то выберется. Такому сам черт не брат! А смеются как! У меня и теперь звенит в ушах их смех. От него не то что турецкому султану — самому сатане жарко, — и тихо, будто стыдясь внезапно нахлынувших чувств: — Чтобы написать такую картину, надо очень любить народ и верить в него… Очень! Говоря об «академиках», Николай Витальевич обычно делал исключение только для Брюллова. На его картины (особенно «Последний день Помпеи») он смотрел влюбленными глазами Тараса, всегда с благоговением вспоминавшего «великого Карла» — своего освободителя от горькой крепостной неволи. Запомнился отцу и скульптурный портрет Павла I, выполненный знаменитым Шубиным по заказу императорского двора. Низкий обезьяний лоб, лишенные живой мысли бездушные глаза, смесь воли и безволия, надменности и подозрительности, садизма и животного страха во взгляде, в каждой черточке тупого лица — таким скульптор-реалист запечатлел для грядущих поколений самодержца всея Руси. — Подумай только, по заказу двора! «За царське жито царя й побито»! В музыке так зло посмеяться над криводержавием сумел, может быть, один только Римский-Корсаков в «Золотом петушке»! Как-то, рассказывая о Русском музее, вспомнил отец и свое первое посещение Эрмитажа в 1874 году. В Петербурге училось тогда немало земляков-украинцев, знавших отца по Киеву. «Землячество» устроило ему встречу со студенческим пуншем и пением «малороссийских песен». На следующий день вся компания в чумарках, сорочках и шароварах высыпала на набережную Невы, чувствуя себя по соседству с Зимним дворцом чуть ли не бунтовщиками. Кто-то предложил отправиться в таком виде в Эрмитаж. К тому же «новичку» Лысенко и самому хотелось познакомиться с этим чудом столицы. Пришлось, однако, вернуться несолоно хлебавши. Швейцар, величественней и безмолвней Александрийского столпа, не пропустил сынов Малороссии в храм искусства. Оказывается, согласно инструкции в Эрмитаж допускались только «господа в мундирах и фраках». Фраки и мундиры были в глазах царского двора высшими и единственными ценителями сокровищ Эрмитажа.
 Ольга Антоновна Лысенко, жена композитора.
Ольга Антоновна Лысенко, жена композитора.
 Село Романовна (конец 90-х годов). Слева направо: Т. Р. Рыльский, М. Т. Рыльский, В. Б. Антонович.
Село Романовна (конец 90-х годов). Слева направо: Т. Р. Рыльский, М. Т. Рыльский, В. Б. Антонович.
На письменном столе в кабинете отца всегда стояла фотокарточка с дарственной надписью. И теперь в кабинете-музее Н. В. Лысенко при Киевской консерватории со старинного фото на нас смотрит замечательный композитор, гениальный артист-виртуоз Антон Рубинштейн. — Я бывал на концертах Рубинштейна, — рассказывал отец, — в 1874–1875 годах в зале Дворянского собрания. Незадолго до этого он как раз возвратился в Россию после своего знаменитого турне по Европе и Америке. Ничего подобного мне не довелось слушать ни раньше, ни в более поздние годы. Не забыть его одухотворенное лицо, львиную гриву, иссиня-черные волосы, глубоко посаженные, очень выразительные глаза. Играя Листа, Мендельсона, он весь сливался с инструментом. Казалось, из самой груди его исторгаются эти звуки, то нежные, то властные, почти демонической силы. В 1883 году, когда Антон Григорьевич последний раз концертировал в Киеве, мы встретились как старые знакомые. Тогда-то он и подарил мне свое фото. Судя по рассказам отца, большое впечатление на него произвела в начале 1875 года премьера рубинштейновского «Демона» в Мариинском театре. Дирижировал знаменитый Направник. Особенно понравились отцу хоры «Несут несчастного», «На воздушном океане», партия Демона в исполнении Мельникова и Петров — Гудал. Мариинский театр приобретал в ту порувсе более отчетливые национальные черты. «Русалка» и «Каменный гость» Даргомыжского, «Борис Годунов» Мусоргского, «Кузнец Вакула» Чайковского, «Псковитянка» Римского-Корсакова еще раз убедили молодого композитора, что украинская опера сможет успешно развиваться только на основе и в содружестве с русским оперным искусством. «Необходимо было бы каким-нибудь образом ознакомить их (украинскую музыкальную молодежь. — О. Л.) с «Русланом» и «Жизнью за царя» Глинки, «Русалкой» Даргомыжского, «Псковитянкой», «Снегурочкой» Корсакова и «Борисом Годуновым», «Хованщиной» Мусоргского (отчасти «Опричниками» Чайковского). Следовало бы некоторые произведения Бородина, хотя бы его симфонии, проштудировать», — писал Николай Витальевич Ивану Франко, излагая свою программу музыкального просвещения на Украине. Из театральных впечатлений петербургской поры самое дорогое для отца — оперы Глинки. Гаснут люстры, в сказочном, таинственном полумраке утопает зал, и под волшебную мелодию увертюры «Руслана и Людмилы» медленно плывет вверх тяжелый занавес. Слушая «Руслана», я и теперь не раз переношусь в нашу гостиную на Рейтерской улице. Зал тускло освещен. Отец у рояля. На наших глазах совершается чудо. Кажется, не звуки, а огневое пламя брызжет из-под пальцев. Музыка такая, что хочешь не хочешь, а пустишься в пляс. Мои сестренки — Катря, Галя, Марьяна — подхватывают меня. И вот мы, то сплетая, то расплетая руки, кружимся в такт «лезгинки». Позже отец охотно составлял нам, молодым, компанию, когда мы собирались на «Руслана» или «Ивана Сусанина» в наш киевский театр. В антрактах обычно разгорались горячие споры: «в ударе» или «не в ударе» исполнители «Руслана», на высоте ли оркестр? Вначале отец в спорах участия не принимал, сидел молча, загадочно, а иногда с лукавой смешинкой улыбался в усы. Под конец и его брало за живое. Воскресали петербургские впечатления. Партия Руслана и Сусанина… голоса Петрова, Стравинского, оркестр Направника, вновь открывшего Глинку для петербургской публики, чудо-декорации. — Все, чем славился в те годы Мариинский, навсегда вошло в мою музыкальную жизнь, — убежденно говорил отец. Любовь и ненависть — таково на всю жизнь отношение Лысенко к Петербургу, точнее к двум Петербургам. Как и Шевченко, он ненавидел холодный, равнодушный к человеческому горю город царей, вельмож, тупых цензоров, город, гдеp>Церкви та палати,
Та пани пузаті…
МУЗЫКА К КОБЗАРЮ
«До Тараса». — Из той же криницы. — «Радуйся, ниво, неполитая». — На Тарасовой горе.
Микола Лысенко и Шевченко… Над рабочим столом отца с незапамятных для меня времен висел под вышитыми рушниками большой портрет Кобзаря. — Ну, я пішов до Тараса, — отправляясь в свой кабинет, говорил отец. Порой заглянешь к нему: сидит в кресле, задумчиво смотрит на Шевченко, кажется, советуется с ним о чем-то очень важном, сокровенном… Нельзя даже представить себе жизнь, творчество Николая Витальевича без великого Кобзаря. С именем Шевченко связаны и первый самостоятельный шаг и вся почти полувековая деятельность Лысенко-композитора. Две даты — два произведения. 1868 год, Лейпциг. Начало творческого пути. По просьбе галичан Лысенко создает свое первое произведение на слова знаменитого «Заповіта». 1912 год — «Элегия памяти Шевченко для скрипки и фортепьяно» — одно из последних творений композитора. А между ними — десятилетия труда, больше тысячи произведений. Из них почти 90 (!) песен, романсов, кантат и хоров на слова Шевченко. И до Лысенко «Кобзарь», как магнит, притягивал многих композиторов. Однако только отдельные творения на тексты Шевченко — среди них знаменитая мелодия «Заповіт» полтавского учителя Гладкого — популярны в наши дни. Не увенчались успехом и попытки западноукраинских композиторов. «Многие наши галицкие композиторы брались за музыкальную интерпретацию Шевченковой поэзии, но едва ли один из них попал на верную дорогу», — замечал полвека назад Людкевич, ныне здравствующий 80-летний патриарх украинской музыки. «Достаточно сравнить музыку на стихи Шевченко «Ой, чого ти почорніло» Воробкевича или песню «Минають дні» Заремби с романсами Лысенко на эти же тексты, — писал он, — чтобы понять ту огромную разницу, прямо пропасть, которая разделяет оба рода музыки: там монотонность, местами неестественный пафос, что… иногда прямо искажает характер поэтического высказывания, — тут непосредственная простота, но оригинальная, правдивая красота в каждой музыкально-поэтической фразе…» «…Пример органического слияния поэзии и музыки, в котором два народных корифея подали друг другу руки». Сказано метко и верно. «Музыка к «Кобзарю» — действительно высшее достижение Лысенко-композитора. Подняться в «Музыке к «Кобзарю» «до тех самых высот вдохновенного творчества», что и Шевченко в своих стихах»'. Николаю Витальевичу помог народ. Живой водой из глубинных истоков творчества народного омыл свою музу Тарас, из той же криницы черпал свое вдохновение Лысенко. «В «Музыке к Шевченковому Кобзарю» каждая нотка, каждая фраза, каждая песня насквозь оригинальна и вместе с тем искренне-народна…» Эти слова тоже принадлежат известному исследователю украинской музыки, этнографу и композитору Филаретту Колессе. Он же, имея в виду прежде всего шевченковский цикл, писал: «В своих оригинальных композициях Лысенко является типичным представителем украинского народа и толкователем его интимнейших чувств. Он настолько овладел народным стилем, что творил в народном духе, не подражая народным мотивам: он тянул («снував») дальше золотую нить народного творчества». Трепетная песня степного жаворонка, раскатистый гул днепровских порогов, трубные призывы к битве — и на этом фоне кипение человеческих страстей, бьющаяся через край жизнь народная. В «Музыке к «Кобзарю» звучат и колыбельные напевы («Ой, люлі»), и плач одинокой сироты («Ой, одна я, одна»), и горе-печаль покинутой девушки («Нащо мені чорні брови»), тоска ссыльного поэта по родному краю («Сонце заходить»), его гневный протест против неволи горькой («Ой, чого ты почорніло» и «Мені однаково»), А как верно передан бунтующий, негодующий, пророческий голос великого Кобзаря в кантатах «Б’ють пороги» и «Радуйся, ниво…»! «Радуйся, ниво неполитая» — любимое творение отца, созданное на один из революционнейших текстов Шевченко — «Исайя. Глава 35 (подражание)». Я часто слушал кантату в исполнении Лысенкового хора. И мне всегда казалось, что именно в ней, возможно с наибольшей полнотой, воплотился тот своеобразный, лысенковский музыкально-песенный стиль, который как нельзя лучше соответствует духу Кобзаря. Свободная от шаблона, живая, изменчивая мелодия… Спокойный речитатив приобретает' бурные, насыщенные драматизмом акценты и снова разливается вольно, широко. Как всегда верный тексту, Лысенко поделил кантату на пять самостоятельных частейp>Радуйся, ниво неполитая!
Радуйся, земле, не повитая, —
Утомлені руки, —Тоді, як господи, святаяНа землю правда прилетить.
I дебрь-пустыня неполита,Зцілющою водою вмита,
В ГОСТЯХ У ПОБРАТИМОВ
Охматовский рай. — Хор Порфирия Демуцкого. — Письмо друга. — В Романовне. — Сюрприз. — Малая фольклорная экспедиция. — По Сквирщине. — Смерть товарища. — Наш «квартирант»
Не знаю, несчастливая ли карта, а может, каприз расточительной красавицы заставили бывшего владельца покинуть старый дом, зеленоватый, таинственный по ночам ставок, словно перекочевавший из гоголевской «Майской ночи», широкие, солнечные аллеи парка. Как бы там ни было, к нашему приезду в Охматово весь этот рай с белыми колоннами среди стройных тополей и кленов уже принадлежал Порфирию Даниловичу Демуцкому. От небесного рай Демуцкого отличался, пожалуй, тем, что попасть сюда было легко и просто. Ни днем, ни ночью не закрывались массивные двери дома. Из отдаленнейших сел Уманщины приходили больные к Демуцкому, зная, что и кабинет его и сердце всегда открыты для бедняка. Имя Демуцкого было, впрочем, известно и за пределами Уманщины. Искусный врач уживался в нем с фольклористом-музыкантом, собирателем и знатоком народного эпоса. Любимый ученик и последователь Николая Витальевича, Демуцкий организовал в Охматове первый на Украине селянский хор. Среди ценителей народной песни, людей моего поколения, вряд ли найдется человек, не помнящий гастролей прославленного хора в Киеве. Простота, естественность исполнения, истинный народный дух, а не пение «под народ» — вот чем всегда брали охматовцы. Но выступления в Киеве начались позднее. Первое наше знакомство с хором произошло в конце 90-х годов в Охматове, куда Демуцкий давно уже звал своего друга. Демуцкий учился в Киевском университете в 70-х годах, несколькими годами позже Лысенко, Тадея Ростиславовича Рыльского и Старицкого, но был выкован из той же стали. Своими думами и делами, бескорыстным служением народу он, безусловно, принадлежал к славным побратимам-шестидесятникам. Еще студентом Демуцкий познакомился с отцом и вскоре стал его правой рукой в хоре. Получив диплом врача, Демуцкий навсегда поселился на Уманщине (до Киева рукой подать) в селе Охматово. …Мы выехали всей семьей после обеда, а к вечеру с балкона «Охматовского рая» уже любовались широкой поляной, покрытой как ковром густым разноцветьем трав. Вскоре в зеленый узор ковра вплелись девичьи платки, вышитые сорочки парубков. Это хор Демуцкого. Управляет им сам Порфирий Данилович, сидя за фисгармонией посреди поляны. Заходит солнце, но воздух все еще насыщен его теплом, его лучами. Бледно-розовые с сероватым оттенком блики ложатся на белые колонны, вспыхивают и мелькают на окнах, одевают в фантастические одежды певцов и все вокруг. Пели много песен-примитивов, то есть без профессиональной обработки, а также в обработке Лысенко и Демуцкогоp>По цей бік — гора.
По той бік — гора.
Поміж тими крутими горами
Сходила зоря.
Ясно, ясно сонечко сходить,А хмарнесенько заходить…
Смутен, смутен чумацький отаман,
Він по табору ходить.
* * *— Угадай-ка, Оля, от, кого это я весточку получил. — И тут же на пороге своего кабинета отец прочитал нам (вся семья собиралась обедать) письмо своего старого университетского друга Тадея Ростиславовича Рыльского. Тадей Ростиславович, став экономистом, печатал свои статьи о положении украинского селянства в петербургских и киевских журналах; с годами обзавелся семьей, небольшим хозяйством, но остался верен юношеским увлечениям: как и в студенческие годы, жил интересами «меньшего брата», записывал словесный фольклор и пересылал отцу в Киев. В каждом письме напоминал, что романовские парубки и девчата «самые певучие» на всю Украину. Неудивительно, что отец так обрадовался приглашению друга. Утром мы уже были на вокзале. Поехали, как всегда, в третьем классе. Отец преотлично чувствовал себя среди бойких, острых на язык молодиц. Возвращаясь с базара, они делились новостями или дружно заводили песню, то грустную, то веселую и задиристую, да так, что вагонные стекла дрожали. Проехали мы Фастов, а от Попельни до Романовки недалеко. В благоухающем цветнике, среди пышных роз и нежных чернобривцев — небольшой, аккуратный домик, прилепившийся к старому лесу. Зеленые стражи дома — столетние дубы. Вот и сам хозяин Тадей Ростиславович, высокий, худощавый, с густой бородой и бакенбардами. — Рад приветствовать вас, старый друже, в моем курени. А что Остапа взяли с собою — не пожалеете, мои хлопцы не дадут ему скучать. С нескрываемой гордостью знакомил Тадей Ростиславович со своими хлопцами. — Самый старший, Иван, — моя правая рука в хозяйстве. Знает и любит землю. Богдан — тот любит песни. Где какая свадьба в селе или просто парубки собираются, там ищи его. А этот, — Тадей Ростиславович показал на худенького хлопчика с черными глазенками, — мой меньшенький, Максим. Малое, но бедовое. Слишком уж умен для своих лет, да и шалун, каких мало. Максиму, может, и больше попало бы от отца, но на помощь сыновьям уже спешила жена Тадея Ростиславовича: — Обед давно на столе. Прошу вас, дорогие гости. Памятные дни провели мы у Рыльских. Какая это была простая, дружная семья! Отец и Тадей Ростиславович целые дни проводили за беседой. Вспоминали студенческие сходки, споры, любимых профессоров, первых сеятелей любви к народу, к «меньшему брату», этнографическую работу в Географическом обществе. Только и слышно было: «А помните…», «А тот гаспид, что он только не вытворял на лекциях профессора. Так ему и надо, старому солдафону-пугалу, все стращал нас солдатчиной». Разговор незаметно переключался на современное. Экономист, близкий по своим взглядам к народникам, Тадей Ростиславович глубоко изучил положение крестьян-переселенцев, причины полного обнищания послереформенного села. Отец внимательно слушал, лишь изредка перебивая друга характерными для него возгласами: «Та невже?», «Та це ж чорт-батька зна що!» В Романовке, среди милых, дорогих его сердцу людей, отец отдыхал и телом и душой. А вечерами подолгу рассказывал о концертных поездках, о Тарасовых вечерах. — На этих вечерах особенно чувствуешь, как сердечно любит Тараса наш народ. Не раз приходилось мне Тарасовы концерты давать при таком стечении публики, что с потолка капал дождь от пара да гасли лампы. И не переставал восхищаться романовскими пейзажами: — Боже, какая красота! — Еще и не то будет, друже коханый, — говорил Тадей Ростиславович, загадочно усмехаясь. И хоть чувствовалось, что готовится какой-то сюрприз, но вышло все неожиданно. Вечер. На столе кипит самовар. Из села доносится парубочий говор, пение девчат, возвращающихся с поля. Вот тихо засветилась первая звезда. Вдруг лес вспыхивает дивно-розовым пламенем. Теперь уже настоящими великанами кажутся дубы, на наших глазах они вырастают до самого неба. На длинных дубовых ветвях, расцвеченных пламенем, мгновенно повисают какие-то сказочные существа. Они свисают вниз головой, вертятся «солнцем». Их карликовые тени на земле вмиг вытягиваются на десятки метров. Длинные, странные фигуры то исчезают в темени, то вылетают из нее, освещенные блестками огня. Мы даже с мест вскочили: «Что за диво?» А это молодые Рыльские с сельскими парубками зажгли костер, чтобы показать гостям свои успехи в гимнастических упражнениях. На смену гимнастам на «зеленую сцену» выходят романовские парубки и девчата — сюрприз Тадея Ростиславовича. Над костром, над черными дубами стелется песня. — Ой ти, зіронько, та вечірняя, чом ти рано не зі-ходила? — выводит высокий чистый тенор. В мелодию вплетаются басы, догоняют и никак не могут догнать запевалу. Кажется, воздух, которым мы дышим, тоже полон дивной мелодией. Отец замирает в своей любимой позе, подавшись вперед. — Вот так романовцы! Вот так песня! Обязательно запишу ее. — Это, дорогой мой друже, — удовлетворенно усмехается Тадей Ростиславович, — только цветочки романовского фольклора. Разве не писал я вам, что Романовна самая певучая на Украине? На другой день отец отправился в первую, как он шутя назвал ее, малую «фольклорную экспедицию» по Романовке. Тадей Ростиславович прикомандировал к нам Богдана. — Хлопец хорошо знает Романовку. Богдан и в самом деле оказался превосходным помощником. На селе хлопца любили, по его просьбе охотно пели для отца. Я заметил, что при записи старинных песен отец обычно отдает предпочтение пожилым женщинам, старухам или дедам. — Так вернее, ближе к первоисточнику. Хорошая песня как вино. Чем старее, тем лучше, — заметил он, возвратившись из «экспедиции». — Вот видите, на ловца и зверь бежит, — пошутил Тадей Ростиславович, выслушав рассказ отца. — А не отправиться ли нам куда-нибудь подальше? По правде, засиделся я дома, а вы растормошили, разбудили во мне «фольклористическую» жилку. Разве мы не козаки?! Снаряжу доброго воза, запасемся хлебом-солью — и с богом! Через два дня на рассвете (еще не погасли зори) воз с «экспедицией» загромыхал по дорогам Сквирщины. Мы с Богданом (шутка ли!) почти полноправные члены «экспедиции». Твердого плана у нас не было, на «экспедиционном совете» порешили останавливаться в крупных селах. Тадей Ростиславович взял на себя словесный фольклор: пословицы, сказки, легенды. К ним всегда лежало у него сердце. В Белках попали как раз на ярмарку. Знакомая картина. Длинные ряды возов, а между ними крикливые перекупки. Над всем этим криком, гамом заунывное пение слепцов-лирников. Отец долго не отходил от старого лирника, слушая какой-то псалом, а потом заинтересовался, не знает ли тот «светских» песен. — Может, смешливых, про пана или попа? Лирника не пришлось упрашивать. Он запел, наигрывая, кажется, «Про Хому та Ярему». Отец щедро вознаградил лирника, но, к моему удивлению, ничего не записал. Возвратившись на постоялый двор, он сразу уселся за стол и быстро сделал эскизные записи. — Так оно лучше выходит, а то сразу начинаешь записывать, и человек уже фальшивит в пении, а то и побаивается. Тадей Ростиславович пришел немногим позже, довольный, что ему удалось «раскопать» очень интересные пословицы. Остановились мы в Белках у Юдки-корчмаря, старого знакомого Тадея Ростиславовича. Юдка начал было жаловаться на пристава-хапугу, которому «дай, дай, и все мало». Добрался и до более высоких чинов. «Пусть горит все ясным огнем, раз им бедняк поперек горла стоит». И тут же забегал, засуетился: — Такие гости! Такие гости! А я побасенки развел. Панычи небось с утра и росинки во рту не видали, — скороговоркой сыпал корчмарь. Наконец Юдка торжественно выплыл из кухни в сопровождении своей жены, маленькой, сухонькой, с праздничным подносом, на котором аппетитно разлеглась большая фаршированная щука. — Вы же знаете мою Голду, пан Рыльский! Негоже жену хвалить, но у Голды золотые руки, дай бог ей и всем нам здоровья. — Голдэ-сердце, налей и панычам по маленькой. Вишневка полезна. От нее хороший аппетит. Щука «пошла» бы и без вишневки, так как действительно была приготовлена на славу. Все остались довольны, а больше всех старый Юдка, с лица которого до нашего отъезда не сходила счастливая улыбка. Так закончился первый день «фольклорной экспедиции». К сожалению, это был и последний день ее. Вечером мы заехали к хорошему приятелю, другу отца и Тадея Ростиславовича, доктору Иосифу Юркевичу. Встретили нас тут как самых дорогих гостей, угостили поистине лукулловым ужином. Юркевич уже и сам хотел было присоединиться к нашей «экспедиции», но к утру погода резко изменилась. Надвинулись серые, тяжелые тучи, завыл совсем не по-летнему холодный ветер, заморосил дождь. Но хуже всего — совсем плохо почувствовал себя Тадей Ростиславович. Сразу как-то пожелтело его лицо, налились болезненной синевой мешочки под глазами. Пришлось нашей «фольклорной экспедиции» вернуться в Романовку. Невеселое было возвращение. Тадей Ростиславович сначала шутил, но, помню, в дороге, грустно улыбаясь, сказал отцу: — Записал я, друже, на ярмарке пословицу: «Був кінь, та з’їздився». Вот так и я… И уже молчал до самого дома. На другой день, когда Тадею Ростиславовичу стало лучше, мы с отцом выехали в Киев. …Прошло несколько лет. Здоровье Тадея Ростиславовича все ухудшалось. Только изредка приезжал он к нам из своей Романовки. Крепился, ни на что не жаловался. Но отец все понимал без слов. Осенью 1902 года Тадея Ростиславовича не стало. Смерть друга глубоко потрясла Николая Витальевича. Вот что писал он товарищу университетских лет Борису Познанскому: «Любимый и всегда милый моему сердцу Борис! Всем сердцем сочувствую твоему горю — потере незабвенного Тодося. И на меня этот гром упал неожиданно. Утром 26 октября принесли мне письмо, говорят, от Юркевичей — соседи наши, а Хведьку приятели по имениям… Письмо оказалось от Ивана — старшего сына Хведька. Пишет из Романовки: «Извещаю вас этими несколькими словами, что отец наш вчера умер». Я, остолбенел, послал к Юркевичам. «Правда, — говорят, — сегодня едем в Романовну». Я сюда-туда, к товарищам. Оповестил. Сейчас же послали заказ на два венка: «От старших товарищей незабвенному Федьку Рыльскому», другой от товарищества — «Честному работнику на родной ниве Тадею Рыльскому». Говорят мне, чтоб ехал. На другой день, 27-го, вместе с молодежью из издательства… и с двумя студентами от Студенческого украинского общества поехали… Весь дом с утра и до поздней ночи был окружен селянами: бабуси и молодицы, старые деды и чоловики сидели в зале вокруг тела, два дня не выходя… Четыре пары волов хозяйских впрягли четыре парубка-погоныча в воз. Гроб, покрытый «червоной китайкой» — заслугой козацкой, несли мы все и народ до самого кладбища мужицкого, на котором покойный хотел быть похороненным. Занесли в церковь… Когда вносили гроб, все волы заревели, «стоя в ярме». Потом гроб понесли на кладбище, где уже был приготовлен склеп каменный. Там и похоронили. …Умер цветок юношества 60-х годов, славных годов общественной сознательности и возрождения украинского национального чувства…» А через некоторое время в нашем доме на Мариинско-Благовещенской улице появился «квартирант». По просьбе жены Тадея Ростиславовича отец взял к нам младшего Рыльского — Максима, поступившего в одну из киевских гимназий. Маленький гимназистик, быстроглазый, находчивый, смышленый, сразу стал любимцем всей нашей семьи. …Столовая, освещенная желтоватым светом керосиновой лампы. Все в сборе. Рядом с отцом, на своем постоянном месте, Максим. — Спрашивали тебя сегодня в классе? — А как же! По русскому — пять, по географии — пять. Максим настолько увлечен своим рассказом, что не замечает, как опускается на его, голову большая теплая ладонь. Николай Витальевич вообще любил. детей, но сын «незабвенного Тодося Рыльского» будил в нем особые чувства, а возможно, и воспоминания о своем детстве и юности, о товариществе, которое с годами все убывало и убывало. Книгочей, каких мало (сколько книг перечитано им в нашей библиотеке!), маленький Максим особенно радовал отца своей любовью к музыке. — И слухом музыкальным и памятью, — говорил он частенько, — природа-мать не обидела нашего Максима. Кто знает, может, и музыкантом будет. Я, тоже гимназист старших классов, часто заставал Максима за роялем. Что услышит в оперном театре или на концерте, куда не раз водил его отец, то и подбирает на слух. В то время и меня потянуло к творчеству. Бывало, часами (конечно, в отсутствие отца) играл свои импровизации на мотивы народных песен. Единственным моим слушателем был Максим. Он и сам, случалось, просит проиграть ту или иную мелодию, точно напевая ее тоненьким выразительным голосом. Сидит — утопает в отцовском кресле, губы шевелятся в такт мелодии, глаза закрыты — слушает… Все было насыщено музыкой в нашем доме. Это не могло не сказаться на Максиме. Одним из первых он слушал новые произведения отца в исполнении автора, постоянно был в курсе музыкальной жизни Украины. И до сего времени Максим Тадеевич Рыльский, академик, известный украинский поэт и ученый-филолог, сохранил свою любовь к музыке. Не потому ли его стихи такие певучие, не потому ли в его слове столько внутреннего ритма, мелодичностиh3> С ХОРОМ ПО УКРАИНЕ

Штаб хора. — Страничка истории. — Дозволит ли губернатор? — Лубенский Пришибеев. — Для кого хор?
Отец, не успев снять пальто, шапку, стоял посреди гостиной веселый, возбужденный, сияющий. — Вот что, матуся, готовь нам, козакам, харчи на дорогу. Дело решенное. Еду с хором по Украине и хлопца беру, пусть жизнь увидит. Радости моей не было предела, хотя с «харчами» отец поспешил: готовились к поездке несколько месяцев. В хор Лысенко потянулись студенты, служащие, семинаристы (попадались среди них чудесные голоса). Начальство сурово запрещало семинаристам посещать хор, разучивающий «антибожественные» песни, — несмотря на это, хор в полном своем составе собирался вечерами у нас на Мариинско-Благовещенской улице (теперь улица Саксаганского) или на Рогнединской в помещении Литературно-артистического общества. Николай Витальевич в эти дни не знал отдыха. Разучивал с хором новые песни, отбирал солистов и с каждым репетировал отдельно. Ближайшими помощниками отца по подготовке к поездке были Яков Петрович Гулак-Артемовский, железнодорожный служащий, близкий родственник знаменитого певца и автора оперы «Запорожец за Дунаем», да Кирило Стеценко, любимый ученик отца, позже известный украинский композитор. Наш дом стал в эти дни настоящим штабом хора. Бывало, в какую комнату ни заглянешь, всюду широчайшие шаровары, вышитые сорочки — национальные украинские костюмы для хористов. В письмах Николая Витальевича так и слышится нетерпеливый зов. В дорогу, в дорогу! В поезде, на речном пароходе, пугающем своими гудками богомольных странниц и днепровских чаек, на «балагуле» и волах. Ему не терпится поскорее выбраться к людям. «Хочу в Екатеринослав переехать, если бог поможет, через полтавские уездные города, как Ромны, Лохвица, Миргород, Хорол и через Кременчуг — Днепром в Екатеринослав и далее». Он торопится сам и торопит своего полтавского друга Маркевича: «Только, будьте добры, не откладывайте этого дела: оно мне очень нужно, так как выезжать из Киева думаю 16–18 июня, а приготовиться нужно заранее…» Что значили для Николая Витальевича его поездки с хором по Украине? Почему посвящал он им столько времени, терпения, сил? Когда думаю об этом, невольно вспоминается более поздний разговор с отцом в одну из совместных поездок с хором. — Знаешь, Остап, есть что-то общее между нашим делом и трудом хлебороба. Только тот сначала сеет и потом уже жнет, собирает, а мы сначала по зернышку собираем песню к песне, а затем хор наш сеет-рассевает те зерна по всей Украине. Вот так и отдаем народу у него взятое, но уже в оправе. Пропаганда оригинальных произведений, народных песен далеко не единственная цель хоровых поездок. «Минуло несколько дней, — пишет Николай Витальевич А. М. Кулиш[28], — как я возвратился в Киев из артистической своей поездки с хором украинским, солистами и певцами. Наездил больше месяца. Будил заспанных земляков песнями». Будить людей песней! В этом видел он свой долг. Ради этого сознательно шел на всякие превратности кочевой жизни, вновь и вновь собирал распавшийся по разным причинам хор. Но вот собран хор, отец днюет и ночует на репетициях, и снова (в который раз!) все карты путает давний враг всех начинаний Николая Витальевича — безденежье. «Затеял я было большое дело со своим хоровым турне по широкой России и Польше, собрал большой хор душ в 40–45, смешанный, а именно — мужской и женский. Уже начал и репетиции, рассчитывая выехать с 15 декабря и по 1 февраля. Поскольку же капитал, назначенный для этого турне, был небольшой (900 рублей) и потому нельзя было дать на месте хороших денег, так в пути платил бы по 90 рублей каждому и дорога моя. А на месте только по 9 рублей в месяц. Все же местные люди. Вот тут же и вышла, выявилась фальшь. Стали переманивать голоса. Я увидел, что это очень не безопасное дело, так как путешествие это нужно было совершить или с великим триумфом, или же полный был бы провал. Я рассчитал— лучше не рисковать, чем потерять и свое имя и дело народное. Я распустил хор. Может быть, как бог даст веку, позже удастся» (из письма Лысенко к Б. Познанскому). Истины ради не могу не отметить, что подобную осторожность Николай Витальевич проявлял редко. Куда чаще пускался в турне чуть ли не с пустой кассой. И если воз хоровой все же катился (к тому же успешно, а временами с большим триумфом), то объясняется это энтузиазмом, бескорыстной любовью к песне многих участников хора, не говоря уже о самом его организаторе и бессменном руководителе. А чего стоили Николаю Витальевичу всякие «высочайшие» и местные запреты на украинское слово, украинскую песню. Бывало, уж и хор спелся и деньги «на выезд» собраны, а ехать нельзя, сиди и жди, дозволит или не дозволит губернатор. «Приехал ли уже новый губернатор в Полтаву? — с тревогой переспрашивает Маркевича Николай Витальевич. — К нему нужно мне обратиться за разрешением петь хоровые концерты в уездах. Как Вам кажется — дозволит ли?» Ответа почему-то сразу не последовало. И отец, уже не на шутку обеспокоенный, снова пишет Маркевичу. «…Нет и нет от вас вестей… Уже из Петербурга, из драматической цензуры пришло разрешение текстов и из городов христианских тоже уведомление письмами имею, что все ждут и рады слушать (Ромны, Лохвица, Гадяч, Миргород, Хорол). А главная беда в том, что пока нет вестей из Полтавы, нельзя передового заранее высылать из Киева, а ведь это дело большой важности — заранее послать, устроить с залой, афишами, билетами. Кроме того, оставаться в Киеве далее 20 июня — невозможно, так как семинаристам, кончающим 11-го последние экзамены, не будет чем жить и где жить. А дни проходят да проходят — не знаешь, что думать и гадать. Прошу вас, голубчик, пришлите мне весточку, будет ли что с разрешением на Полтавщину. Она мне очень важная, так как этот край перед степью, Екатеринославщиной, Донщиной и далее мне известен и меня знают люди, тут есть надежда на успех, а там уже как бог приведет». Хор Лысенко! Уже одни эти слова приводили в бешенство казенных, верноподданнейших патриотов. Почти ни одна поездка хора не обходилась без доносов на «народного композитора, сеющего крамолу в умах малороссов». «Думаю ехать во Львов на выставку — просят дать концерты. Это, конечно, и желательно, но вместе с тем не безопасно, — делится он своими опасениями с Борисом Познанским, — так как ура-патриоты того и ждут, чтобы из какой-то там манифестации сделать донос, а тогда кто поручится, что меня не возьмут за хвост да и выкинут, а институт [29] — это единый источник, что меня кормит. Вот такое лихо, мой друже! И нужно бы, и не знаешь, как быть». Однако ни временные неудачи, ни запреты, ни доносы, ни угроза остаться без места, а значит и без единственного верного источника существования не отбили у Николая Витальевича охоты к любимому делу. «Есть у меня думка, — пишет он Маркевичу в Полтаву, — собрать хороший смешанный хор (душ на сорок) и с хорошей украинской, широкой программой ехать на французскую выставку в Москву на два месяца — июль и август. Для этого нужно собрать в Киев людей с хорошими голосами (мужчин душ двадцать пять и женщин душ пятнадцать), начать с ними репетиции и учить месяца с полтора и тогда отправляться в Москву. Для этого нужны порядочные гроши, но они нашлись. Посоветуйте мне, голубчик, людей с хорошими голосами, теноров, басов, может и женщины есть у вас на примете — сопрано или альты. Конечно, я буду искать и в Киеве и, вероятно, кое-что найду, но и по другим городам желательно иметь заручку. Если такие есть у вас в Полтаве в хорах или на стороне, то дайте мне, голубчик, адрес их… Не откажите мне, пожалуйста, как можно скорее ответить, собрав сведения. Если дело пойдет на лад, то с 15 мая нужно бы уже и начинать учение, так как учить нужно много чего». В другом письме: «Узнайте немедленно, где сейчас находится Г. Курдиновский (баритон)… Если в Полтаве, я бы просил его поехать со мной с хором украинским по южным краям — Екатеринославщине, Донщине, Черноморью, туда к Кавказу. Если будет дело, то и на Кавказ». Маршруты хоровых поездок обсуждались заранее и для меня лично нередко превращались в экзамен по географии. — Давай-ка, Остапе, свою карту. Присаживайся сюда, поближе. Карандаш прихватил? Готово? Ну, поехали. До Екатеринослава пароходом. Славянск. Юзово… Нашел? Поехали дальше. Таганрог, Ростов, Мариуполь, от Бердянска через Азовское море в Керчь. А там Феодосия, Ялта, Севастополь. И себя покажем и людей увидим. Я, конечно, стараюсь изо всех сил, рад, что хоть чем-нибудь могу помочь отцу. Но одно дело путешествовать по карте, а другое — все увидеть своими глазами. Наконец день отъезда, совпадающий с началом летних каникул в семинарии, наступил. Впереди дальняя дорога по Киевской, Екатеринославской, Волынской, Полтавской губерниям. На целую версту растянулся наш обоз из тридцати возов. Жара. Над дорогой пыль — света не видно. Скрипят колеса. На возах кто спит, кто переговаривается, а кто песню подтягивает. Отец не часто садится на воз — больше шагает рядом, думая свои думы. Я уж знал, что в такие минуты его лучше не беспокоить. Через час-другой он снова становится бодрым, уверенным, воинственно настроенным. А «воевать» Николаю Витальевичу и на этот раз приходится часто. Хор выступал в небольших городах (так, говорил отец, ближе к народу), но и здесь концерт не мог состояться без разрешения местных властей. Каждый такой концерт стоил отцу немало сил. То программа начальству не нравится, то доморощенный унтер Пришибеев вообще никаких концертов и представлений не терпит. Тогда отец пускал в ход «тяжелую артиллерию хора» — трех семинаристов, которые изучили все пути к полицейскому сердцу. Так было и в Лубнах, где исправник, уже наслышанный о «крамольном» хоре Лысенко, сам явился на концерт в полной форме и орденах. Перед началом концерта он, помнится, все грозил отцу: «Шевченковским духом от вашего хора несет, бунтарским. Не позволю!» Отец неторопливо, будто ничего и не случилось, продолжает надевать свой дирижерский фрак, незаметно подмигивая «тяжелой артиллерии». Три семинариста как из-под земли вырастают возле исправника, «по ошибке» три раза называют его «высокородием», чем сразу завоевывают начальничье сердце. Тут же шепотом заверяют «его высокородие», что никакой концерт «всухую» не пойдет, что, дескать, было бы неплохо горло промочить. Куда водили семинаристы «начальство», сколько было выпито — не скажу, но вернулся исправник на свое место в первом ряду совершенно успокоенныйp>Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте! — —
Кругом неправда і неволя,Народ замучений мовчить.
У СТАРОГО КАЗАКА НЕЧУЯ
В апрельское утро. — Одного поля сеятели. — «Маруся Богуславка» и «Тарас Бульба». — В гостях у живого классика. — Не позвать ли бабу Палажку? — На днепровских склонах
Утро. Апрельское солнце совсем по-летнему заливает комнаты. Сегодня первый день пасхи! На всю неделю свободен от гимназии! Воля! Все улыбалось мне: празднично прибранная гостиная, сверкающая лаком крышка рояля, веселые петушки на рушниках. Из кабинета отца — голоса, смех. И в праздники встает он рано. Еще и приговаривает: «кто рано встает— тому бог дает», «утро вечера мудренее», «по мне и в праздники наибольший грех — безделье», «отдыхать успеем на том свете, на этом — надо трудиться», «задумано много, а век нам короткий отпущен». Так говорил отец не ради красного словца. В рабочем кабинете, в сердечной беседе с другом, среди гостей и в короткие часы отдыха в Китаевском лесу — везде работала его мысль, билась в унисон с бунтующим, ненавидящим безделье и покой сердцем. Не успел и подумать, кто это так рано у отца в гостях, слышу — зовут: — Это ты, Остап? Зайди послушай старого козака Нечуя. В кабинете рядом с отцом мать и Ольга Петровна Косач. Ее я даже не считаю за гостью: бывает у нас по соседству частенько, чуть не ежедневно. Сегодня, правда, Ольгу Петровну простоне узнать. На губах блуждает сладкая, льстивая усмешка. В голосе мед, в глазах, обращенных к небу, тоже мед, в руках — тоненькая книжечка. — Господи милостивий га милосердний! І що я людям заподіяла? Сиджу в хаті тишком-нишком та богу молюся… Моя стежка тільки від хати до церкви. Я ніколи не зачепила навіть малої дитини, за всіх молюся богу, ще й Параску, стару суку, поминаю в молитвах. — Здорово, Ольга Петровна! Талант! Настоящий талант! И как это, — смеется отец, — Микола Садовский до сих пор не заманил вас в свои театральные сети? Ольга Петровна, как говорится, и ухом не ведет. Тем же голосом старой богомольной знахарки бабы Палажки продолжает: — Вся рідня мене кляне, товче… насилу душа моя держиться в тілі. Я не знаю, що вже далі буде. Не можна мені не те, що в селі вдержатись, — не можна мені вже й на світі жити… Люди добрі! Благословіть мене скоропостижно вмерти! Нехай мій гріх впаде на Парасчину душу. Страница за страницей развертывалась перед нами хорошо знакомая история пересудов-ссор и настоящих баталий бабы Палажки и бабы Параски — страшная картина жизни старого украинского села. Летят из-под очипков старух вырванные косы, валится под ударами топора Палажки печь, трещат битые горшки; за сотку земли, за старого петуха, за наследство сын поднимает руку на мать, глухая вражда делит село, соседей, родичей, семьи. И с каждой страницей гасли, таяли искорки смеха в глазах отца, тяжкая печаль тучей ложилась на его лицо. — Сколько читал, перечитывал, а за душу хватает. И что за талант у нашего Нечуя. Читаешь — и смешно и плакать хочется. Ведь каждая смешинка старого писателя на слезе замешена, на боли сердечной. Как тут не вспомнить Гоголя: «Скучно жить на этом свете, господа!» Умолк отец. Задумался, подпирая рукой свою рано поседевшую голову, а через минуту, что-то вспомнив, улыбнулся. — Только в одном неувязка у нашего уважаемого земляченька вышла. Помните его «Сьогочасне літературне прямування»?[30] Призывает нашу молодую поросль на родной литературной ниве не учиться у русских, а сам гоголевской сотни козак да и Тургенева и Гончарова не обошел. Мне кажется, что по манере письма, по стилю Нечуй наш автору «Обломова» брат родной. Все у них будто из мелочей вырастает. У Гончарова — диван, халат, ночные туфли, пустое, бездумное существование и безделье. У Нечуя — мелочные ссоры, безрадостный труд, бессмысленные баталии на тесных селянских дворах за горшок или старую грушу. И все описывается серьезно, каждая, даже мельчайшая, деталь освещается со всех сторон. Деталь к детали, капля к капле. И выходит море. Житейское море. Тихо в кабинете. Мамины глаза молодо и влюбленно встречают каждое движение отца. — Николай Витальевич, — говорит Ольга Петровна уже не медовым, а своим обычным голосом, — давно вот собираюсь вас спросить, почему так и не появилась на свет божий «Маруся Богуславка»? Ведь вы, помнится, вместе с Иваном Семеновичем трудились над этой оперой. — Давняя история. «Преданье старины глубокой», — улыбнулся отец. — Я, признаться, и теперь, хоть с тех пор немало воды утекло, жалею, что остановились мы с Нечуем на распутье, а было когда-то — одна общая мысль согревала нас. Одно поле пахали, одним зерном засевали, добрым зерном, а что не взошло оно, не заколосилось пышно, то на это были свои причины. Рассказал отец про свое первое знакомство с «земляченьком сердечным» Нечуем-Левицким. Свела их в 70-х годах киевская «Громада»[31]. Левицкий тогда учительствовал в Кишиневе и только изредка наезжал в Киев. Николая Витальевича привлек живой интерес Нечуя-Левицкого к героической истории Украины, его умение взглянуть на давнину глазами художника и ученого. Тут случилось такое. Увлекся Нечуй-Левицкий известной думой «Маруся Богуславка». Побывал и не раз в самом Богуславе. Записал от кобзарей и селян разные варианты дум и песен о легендарной Марусе, докопался до их древнейших первоисточников. Все это вдохновило Нечуя на создание театрального либретто. Об этом он и сообщил отцу, приглашая написать музыку. — Как раз домой добирался из Таращи на Полтавщину, когда упало мне в руки это письмо, — вспоминал отец. — Обрадовался слову любимого письмовца так, что и не сказать, да и чувствовал себя в силе композиционной; только что дописал «Різдвяну ніч». Прочитал либретто «Богуславки», и завязалась у нас с Иваном Семеновичем сердечная переписка. А уже перед отъездом моим в Петербург составили мы с Михаилом Старицким и свою программу либретто. Иван Семенович согласился с нашим планом, но, увы, на этом и кончилось наше сотрудничество. Отец так и не объяснил тогда, почему либретто Левицкого увидело свет без музыки, хотя ряд фрагментов был им написан в Петербурге. Истинные причины несостоявшегося замысла открылись мне значительно позже, когда я познакомился с перепиской Лысенко и Нечуя-Левицкого. Привожу одно из петербургских писем Николая Витальевича. В нем отразились взгляды на музыкальную драматургию самого композитора, его интерес к массовым сценам, тяготение к народной героической опере. Из письма видно, как далеко зашли в своих совместных творческих исканиях создатели оперы и как велика была пропасть между замыслами композитора и либреттиста. «Обстановка первого действия мне очень понравилась, — пишет Николай Витальевич. — Украинская свадьба с ее оригинальными обычаями, скрашенными хорошим пением народным, сам драматизм свадьбы дадут очень богатый материал для работы… Второе действие тоже, на мой взгляд, удачное. Новый интерес представляет сцена избрания гетмана. Имейте в виду, дорогой, мой совет со стороны музыки: круг козацкий должен самым эффектным образом быть обставлен. Споры, шум, соревнование хоров (их можно разделить на два табора или партии), отдельные речи ораторов к кругу. Согласие, одобрение здесь, несогласие там, в задних рядах — такое беспокойство, смятение в голосах, в целых даже группах козачьих, — растет тот крик все громче и громче. И потом начинает понемногу стихать, как море при отливе, совсем стихает, как дойдет до окончательного согласия. …Хаос расставания женщин с козачьим войском, которое уже на сцене отправляется в поход с Байдой (гетманом), где вслед за криками, шумом, прощанием козацкая походная песня сольется с голошением и плачем женским, — все это море людей, наполнивших всю сцену, должно целиком увлечь слушателей, и глаза, и сердце, и голову. Третье и четвертое действия — суть всей оперы. Этими действиями опера должна и кончиться. Все предыдущее было разве что интродукцией, завязкой к этим двум действиям. Поэтому и сама опера должна быть названа «Маруся Богуславка». Зачем же, подумайте, после такой величавой фигуры, как девушка-полонянка Маруся Богуславка, вводить еще и пятое действие, в котором та рыцарская, платоническая любовь жены Тетери снова появится и илом занесет величественный образ Богуславки! Поэтому я бы советовал вам и просил и молил вас мотив любви Богуславки к Тетере заменить на любовь к родине, матери Украине, к своим кровным землякам. Она здесь должна явиться пламенной патриоткой… Этот мотив неизмеримо высший от обыкновенного плотского чувства, хотя бы жены к мужу или девушки. Такие соблазны не только не дадут серьезной социальной основы оперы, но в скором времени приедятся (I действие — любовь, IV — тоже любовь, V — снова старая любовь)…
 И. С. Нечуй-Левицкий.
И. С. Нечуй-Левицкий.
 Афиша торжественного юбилейного вечера в честь открытия памятника И. П. Котляревскому (Полтава, 1903 г.).
Афиша торжественного юбилейного вечера в честь открытия памятника И. П. Котляревскому (Полтава, 1903 г.).
С того времени, как Маруся в третьем действии вошла в тюрьму, пока не отплывают запорожцы на чайках (лодках), в четвертом действии с пленными невольниками при свете пожара, осветившего облака, море и всю околицу, — всюду она есть и должна быть одной Богуславкой с пламенной думой о свободе милой родины и своих земляков (и ни в коем случае не влюбленной в Тетерю) и не имеющая сил вернуться назад. Однако можно ту коллизию, борьбу внезапно явившегося чувства жалости и «туги» к бывшей своей семье выявить в том отчаянии, с каким она остается на берегу… может без памяти падать, если к делу идет. А с лодок раздается величественная, плавная песня козацкая. Все кругом пылает среди руин и крови». Виделась композитору Маруся Богуславка патриоткой, украинской Жанной д’Арк. Не личное чувство, не плоть, а неугасимая любовь к родному краю, к Украине, далекой и милой, руководит ею, когда она спасает от турецкой неволи, от каторги басурманской своих земляков-побратимов. Такой и народ знал свою Марусю. Плененная врагами, обращенная в веру басурманскую (в плену она стала женой турецкого паши), Богуславка не покорилась, не забыла родную Украину. Недаром в одной известной народной думе Богуславка никого из запорожцев не любит, а по либретто Ивана Семеновича все выходило наоборот, все строилось на любви Маруси к запорожцу Тетере. В Петербурге учеба у Римского-Корсакова, новые планы и замыслы настолько увлекли Николая Витальевича, что интерес к Богуславке на время угас. Написанные фрагменты и сцены так и остались в творческом портфеле до лучших времен. Создавая «Марусю Богуславку», отец и не думал, не гадал, что так станется, но как бы там ни было, а музыка сцены выборов гетмана (сцена эта, как справедливо замечает в своем письме к Левицкому Николай Витальевич, перекликается со сценой веча в «Псковитянке» Римского-Корсакова), кое в чем перекочевала из «Богуславки» в третье действие оперы «Тарас Бульба» (сцена «Сечи»). — Все лето 1880 года, — вспоминал отец, — просидели мы с Михайлом Старицким в его подольском имении (с. Карповка) над либретто «Тараса». Добрались до третьего действия. Михайло, увлекшись, стал грешить против исторической правды, — я не соглашался с ним во многих эпизодах, касающихся разных деталей, образов. Как-то сижу за роялем, и вдруг меня осенило: а что, если сцену «На Сечи» из либретто Нечуя взять за образец для третьего действия «Тараса»? К этой сцене немало у меня музыкальных фрагментов написано. Выборы гетмана здорово вылепились у Ивана Семеновича. Какие краски, какие роскошные типы, какое бесстрашие и страсть боренья! Позднее, когда довелось Николаю Витальевичу продемонстрировать Нечую-Левицкому отдельные сцены из «Тараса Бульбы», он (при мне это случилось) заметил: — А ведь без вас, земляче коханый, не знаю, что и вышло бы с «Тарасом». Сцена «На Сечи» в опере моей — одна из основных. Иван Семенович не только согласился с новым толкованием заимствованной из «Маруси Богуславки» сцены, но, хорошо помню, сказал: «Лучше и быть не может», — чем, признаться, весьма обрадовал автора. Неудача с «Марусей Богуславкой» не помешала дружбе Лысенко и Нечуя-Левицкого. Николай Витальевич послал Ивану Семеновичу свою «Песню без слов» с посвящением: «Славному нашему письмовцу Ивану Нечую». «Примите от меня, ласково-сердечный друже, — писал он Левицкому, — каравай мой, знак искренней любви к вам и глубокого, неизменного уважения к вашему честному и высокому труду в лихую злую годину, «в останню тяжкую минуту», как говорит незабываемый наш Кобзарь». Левицкий не остался в долгу перед «отцом украинской музыки», как он называл Лысенко, и посвятил ему «Миколу Джерю» — лучшую свою повесть, где любовь к жизни, вера в народ, гневный протест против барства дикого и пауков-фабрикантов взяли верх над поповским воспитанием и буржуазно-националистическими взглядами Нечуя-Левицкого, которые, нечего греха таить, временами глушили «светлый талант» «славного письмовца» Украины. — Знал старый Нечуй, что посвящать мне: близки ему мои думы, — сказал как-то отец, когда зашла об этом речь. — Не покорного раба, согнутого и сломленного канчуками панскими, а бунтаря выбрал, заступника народного, прямого потомка запорожской вольницы. Знал, кто по душе мне. Знал… Николай Витальевич до последних дней сохранил уважение «к любимому письмовцу». Об этом убедительно свидетельствует и речь отца на юбилейном празднике Ивана Нечуя-Левицкого: — Я счастлив, что мне, когда-то с большим увлечением зачитывающемуся вашими прекрасными, правдиво рисующими жизнь народную рассказами, довелось приветствовать вас сердечно на этом собрании. Кто из нас, тогда еще молодых людей, не уносился мечтами и сладкими надеждами в славное будущее расцвета родного слова, родной литературы, перечитывая в который раз ваши «Две московки», «Панаса Крутя», «Причепу»… А тот чудесный апофеоз запорожцев в ваших «Запорожцах» — свежо народный, словно девственный полевой цветок весенний, горячим, любящим сердцем написанный этюд, освещенный страстной и вместе с тем правдивой фантазией… Мы постарели, вероятно, с годами солидность в какой-то степени стала господствовать над чувствами нашими, а впечатления минувших давних лет живут в сердце и до сих пор греют убогую душу, повседневно ранимую лихими обстоятельствами действительности. Кому же, если не автору этих красных повестей и рассказов, принадлежит и слава, и признание, и искреннее изумление. Вам, славный наш письмовец-повестяр, слагаю я свою горячую благодарность за высокие минуты творческого вдохновения: вы выбрали себе славный путь и содействовали росту родной литературы, заслужили славное имя патриота-писателя, и пусть вас бог держит долгие годы среди нас на дальнейшее служение отчизне. Слава нашему письмовцу Ивану Нечую! Слава! Однако не пора ли возвратиться в Лысенков кабинет, где мы надолго оставили хозяина, хозяйку и Ольгу Петровну. …Ольга Петровна поспешила домой, захлопотала по хозяйству мать, а отец долго еще сидел за своим столом, взволнованный чтением, воспоминаниями. Вдруг поднял голову. — Ты еще здесь, Остап? Знаешь что, давай, парубче, отправимся вдвоем к старому Нечую. Оно, правда, непрошеный гость хуже татарина, но, думаю, обрадуется старый. Вот увидишь! У меня, признаться, были другие планы. Сговорились мы всем классом махнуть за город, в Голосиевский лес, на «волю». Но ведь такое не каждый день случается: с отцом — в гости! И куда? К живому классику. К тому времени я уже прочитал «Кайдашеву семью», «Рыбалку Крутя», «Бурлачку», зачитывался «Миколою Джерею», и хотя вырос среди композиторов, писателей, Нечуя-Левицкого представлял себе каким-то сверхчеловеком. Сказано, живой классик! Вот и одноэтажный домик на Пушкинской. Словно прилепился к театру «Бергонье» (теперь театр Русской драмы имени Леси Украинки). Тут жил в одиночестве Иван Семенович с тех пор, как ушел на пенсию. На звонок отца вышла на крылечко миловидная дивчина, очевидно служанка. Отец назвал себя, и сразу из комнат донесся приветливый голос: — Заходите, заходите, милости просим. Рад вас видеть, Николай Витальевич, живым и здоровым. Вслед за отцом, все еще робея, и я зашел в комнаты. «Живой классик» оказался обыкновенным старичком, невысокого роста, с белоснежной короткой бородкой и густыми черными бровями, из-под которых так и сияли маленькие проницательные серые глазки. Все на нем: старого покроя костюм, белый, твердо выутюженный воротник, черный галстук — говорило о необычайной чистоте и скромности. Таким показался мне и кабинет писателя, куда нас пригласил Иван Семенович. Небольшой письменный стол, на нем фотографии в аккуратных самодельных рамочках, над столом портрет Шевченко, в углу — шкаф, набитый книгами, стулья, диван-софа. Вот и вся обстановка. Похристосовались, как водится. — Наконец-то, Николай Витальевич, и пожаловали ко мне, давнему поклоннику вашего таланта. И «со чадом». Славный вытянулся парубок. Вижу… вижу… гимназист. В каком классе? Это ко мне. Стою ни жив ни мертв. Знал по разговорам, что Иван Семенович всю свою жизнь учительствовал. Еще, пожалуй, экзамен устроит в первый день пасхи. Обошлось, однако, без экзамена. — Что это вас, Иван Семенович, — спросил отец, — в последнее время совсем на людях не видно? — Да так. Живу я один, как былиночка в поле. Налетели на меня разные болезни. Как те ветры степные на былину. Вот и сегодня что-то нездоровится. — Что же это с вами, земляченько? — Да что-то подпирает изнутри, будто квашня всходит. Поднимается, поднимается, как на дрожжах. Я уже и так и сяк, а оно растет и растет. И все это говорится самым серьезным тоном, без тени улыбки на лице. Только в глазах играют лукавинки-смешинки, выдавая с головой автора «Кайдашевой семьи». Отец в тон Ивану Семеновичу: — А может, проше вас, пригласить бабу Палажку? Приложит макитру, гляди, и поможет. — Эге, эге, мою Палажку сегодня днем с огнем не сыщешь. Дел у нее не перечесть. Надо ей в Киеве на страстной неделе исповедаться, в чистый четверг разговеться, молебен в пещерах заказать, на часточку дать, на святые мощи по грошу положить. По всем святым местам бегает, свечи ставит. Пасху святой водой кропит. Бабу Палажку в пасхальный день? Скажете такое! — Ну, тогда сами, земляченько коханый, тряхните. Да хорошенько. Квашня и осядет. — Дело говорите, добродею, — в том же духе продолжает Иван Семенович. — Оно, может, и действительно тряхнуть? А то болезни заскубут, заклюют меня, словно ястребы лютые голубя невинного. И приятели смеются беззаботно, весело, как дети. — А что нового, Иван Семенович, в вашей литературной «скрыне», чем обрадуете нашу публику? — Да оно, тее-то як того, что-то не пишется. Старость не радость. Куда только сила ушла. А был недавно на вашем концерте. И до сих пор как в тумане. Весь в плену вашей волшебной музыки. Так и звучит в моих ушах «Думка-шумка». Дума кобзаря в первой части. С какой задушевной страстью рассказывает она о народе нашем, его терпеливом мужестве! И какой контраст — вторая часть, «Шумка»! Задорно, молодо звучит в ней голос народа: «Ударим лихом об землю — все равно наша возьмет!» Под впечатлением «Думки-шумки» и я расхрабрился, взялся за перо. Если здоровье позволит, снова баб своих проведаю, Гришиху и Соловьиху. Чтоб за ушко да на солнышко. Даст бог, нечисть какую выведем. И бабам и людям польза. А что получится, поживем — увидим. Старый писатель умолк. Тихой грустью повеяло от всей его согнутой фигуры, опечаленного лица. Отец, видно чтобы перебить, рассеять тягостное настроение, сказал: — А знаете, Иван Семенович, с чем мы к вам пожаловали? Хотел вас на воздух вытянуть. К Днепру Славутичу. Грешно в такой красный день в четырех стенах сидеть. Жаль, здоровье не позволяет. — Да оно как поговорил с вами, как будто и отпустило. Словно водицы живой напился. Можно и на волю. А то и впрямь сделаюсь в этой келье схимником-отшельником. …Не спеша спускаемся на Крещатик. Кого тут только не встретишь в теплый, ласковый апрельский день! Вот сидит в карете, словно наседка с цыплятами, купчиха со своим выводком. Впереди, в открытом ландо, катит какая-то расфуфыренная красотка. Четко, по-парадному отбивая шаг, лихо отдает ей честь офицер в новеньком мундире. Среди толпы то здесь, то там, как черные колокола, плывут, подметая рясами мостовую, откормленные важные попы. На Царской площади[32] сереют овечьими отарами про-чане… Чернеют среди них старухи в темных очипках[33]; молодицы, кто в желтых сафьяновых сапожках, а кто и босиком, раскрыв от удивления рты, глазеют по сторонам. — Волки и овцы, — заговорил Иван Семенович, показывая на толстых пастырей и убогих прочан. — Эге, земляченько, — сказал отец, — тут мы всех ваших знакомых встретим. И бабу Палажку и Параску. А это, глядите, не Кайдашиха постреливает на нас глазами? Злая как ведьма. Иван Семенович оживился, даже щеки его порозовели. То ли ветерком весенним повеяло, то ли обрадовала встреча со старыми знакомыми. — Да они, мои герои, прямо из жизни на бумагу перекочевали. А ведь, Николай Витальевич, некоторые почтенные критики видят во мне талант к художественному вымыслу, и только. А не считаются с тем, что я годами выходил и выездил места, где рождались, росли, тяжко трудились, любили друг друга и умирали герои моих рассказов и повестей… Когда пишу, их лица всегда передо мной. Их боли и страдания давно моими стали. Возьмите Кайдашей. Долго наблюдал я такую семью в Семигорах. А что недосмотрел, то услышал от людей. Микола Джеря и вся его семья — тоже живые, не выдуманные мною. Хотя, конечно, все это подается публике не в сыром виде, а с моим «соусом». Так оно вкуснее. Обычно сдержанный и немногословный на людях, старый писатель на этот раз дал волю давно накопившимся, выверенным в одиночестве думам. Не только голос — весь он как-то помолодел и уже не горбился, как прежде. Вдруг взглянул на отца и рассмеялся. — И чего это я разболтался? Ведь вы, дорогой Николай Витальевич, сами знаете, как оно делается и с чем его едят. Одного мы поля ягоды… Я ловил каждое слово любимого писателя и не заметил, как мы очутились у Купеческого собрания (теперь филармония). Поднялись аллеями старого парка на днепровские склоны. Подол лежал перед нами как на ладони. Слева до самого неба поднималась златоглавая София, в сизом тумане еле заметно синела зубчатая линия лесов. Весеннее полноводье как раз набиралось силы. Грозным морем разлился Днепр. Волны пенились над Трухановым островом, где только местами зеленели кусты верболоза. Далее, у самого горизонта желтели крыши полузатопленных домиков, а за Рыбачьим совсем не видно было земли. Там вода сливалась с голубым небом, с облаками, повисшими неподвижно над Днепром. Отец молча вбирал в себя все запахи, всю красоту весенней земли, вешнего Днепра. Молчал и старый Нечуй. Только одна слеза, скупая, нелегкая слеза одинокого человека прокатилась по его щеке и растаяла в густой седине. — И что оно делается! Красота такая, что и помирать не хочется, — прошептал он горячо. Отец обернулся на голос. — Рано, рано собираетесь в далекую дорогу. Куда там умирать! Мы еще покозакуем с вами, земляченько. Еще и Джериных внуков увидим на воле. Кто знаетh3> ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ И ДРУГ

Воспитанница Лесгафтовских курсов. — Кропивницкий, Надсон. — Автор любимой песни Ильича. — Неоконченный разговор.
Сколько я помню свою маму Ольгу Антоновну Липскую, она всегда была за работой. Утром нас будит ее ласковый и требовательный голос: — Катря, Галя, Марьяна, Остап, вставайте! Вставать, конечно, неохота, но с мамой шутки плохи. Миг — и одеяло у нее в руках. — Пусть медвежата спят, а вам пора за дело браться. Без дела жить — только небо коптить. Мы знаем, что это говорится мамой не для красного словца. Встаешь, а уже форма твоя выглажена, на столе завтрак, в комнатах чисто, уютно — и во всем мамины руки узнаются. Ласковые и беспокойные, требовательные и нежные мамины руки. Они приготовляли вкуснейшие в мире блюда, раскрывали страницы наших гимназических тетрадей, легко, осторожно касались детского лобика, измеряя температуру, белыми лебедями летали над клавишами рояля. Любовь к музыке привела Ольгу Антоновну Липскую, молодую воспитанницу Лесгафтовских курсов, на концерт отца в Чернигове. Музыку она любила всю свою жизнь. …Вечер. Отец в отъезде или где-то задержался по делам. Мы одни с мамой в гостиной. — Мамочка, родненькая, миленькая, сыграй нам что-нибудь! Мать усмехается. — Ну что с вами, медвежата, делать? Утром не добудишься, а на ночь глядя вам музыку подавай. Подходит к роялю и строго: — Хорошо! Сыграю. Но потом всем спать сразу. …На блестящем черном зеркале деки отражается ее необычно суровое лицо, большие карие глаза, в которых так и светится разум, энергия и… печаль. Так сидит она минуту, другую. Вот пальцы осторожно коснулись клавишей, так осторожно, будто боятся ранить их грубым прикосновением. Играла нам мать свои любимые вещи: пьесы Чайковского, отцовскую «Песню без слов». Но больше всего она любила шумановские «Грезы». Как-то во время игры послышался легкий скрип дверей. Смотрю — на пороге отец. Погрозил пальцем: молчи, дескать. Не знаю, что послышалось ему на этот раз в шумановских «Грезах». Когда я снова обернулся, слеза росинкой застыла на его лице. Что это были за слезы? Счастья или тревожного предчувствия? Для нас наша мать была талантливым педагогом, тактичной и требовательной наставницей. А для отца она была женой-матерью, женой-сестрой, мудрым советчиком и неутомимой помощницей, вернейшим другом. Сердце с сердцем прошла она с ним важнейший период его жизненного и творческого пути. Утро… Только что затихли шаги отца: ушел, как всегда, в Институт благородных девиц давать уроки фортепьянной игры. Мать чем-то опечалена — это мы заметили за завтраком. Что случилось? Позвала нас в спальную комнату, закрыла двери. — Дети, вы уже не маленькие и должны понять меня. Все, что было заработано, пошло на долги, которые пришлось сделать, чтобы оплатить последнюю поездку с хором. Придется сократить расходы. Отцу ни слова. Никакие сокращения не должны его коснуться. Он единственный у нас работник. Мы не должны беспокоить его, отрывать от работы. На этом слове мы выбежали из комнаты и через минуту явились со своими маленькими кошельками. — Мама, вот здесь деньги. Ты возьми. Эта сценка — только эпизод. Но в нем вся наша мама. Своим личным делом считала она любое начинание отца, любой его труд. Лесгафтовские курсы (в официальном Петербурге их не без основания называли рассадником нигилизма и вольнодумства) оставили свой след даже на внешнем ее облике. Одевалась всегда со вкусом и просто. В строгом платье со снежно-белым воротником, коротко остриженная, в скромной шляпе, она и в сорок лет напоминала молодую курсистку. Не терпела на себе драгоценностей, украшений. — Своим оперением красна лишь пташка, — говорила она, смеясь, — а человек — знанием. Всегда занятая десятками неотложных отцовских дел, хозяйством, многочисленными посетителями, воспитанием детей, она находила время изучать английский и французский языки, читала новинки украинской, русской и западной литературы, читала и подпольные революционные издания, попадавшие к нам через дядю Дусю. С религией мать поддерживала весьма натянутые отношения. Сама в церковь не ходила, монахов и попов не любила и осталась сознательной атеисткой до самой своей внезапной смерти. Отец мой, хотя тоже не терпел религиозного фанатизма и предрассудков, все же был человеком верующим. Церковь, правда, он посещал больше ради пения и частенько возвращался домой в сопровождении длинноволосого хориста, студента духовной академии. — Смотри, Николай Витальевич, — шутила мать, — покарает тебя господь: у самого бога переманиваешь певцов. Подобными шутками и исчерпывались разговоры на религиозные темы в нашей семье. Не припоминаю ни одного спора. Мать, конечно, уважала религиозные чувства отца, что, однако, не мешало ей воспитывать нас атеистами. Причем и здесь все обходилось без насилия, без докучливой морали. Чаще всего мать почитывала нам вслух из Феррара, Свифта, Гейне, а больше всего Шевченкоp>Світе ясний! Світе тихий!
Світе вольний, несповитий!
За що ж тебе, світе-брате,
В своїй добрій, теплій хаті
Оковано, омурано
(Премудрого одурено),
Багряницями закрито
І розп’ятіем добито?
Не добито! Стрепенися!Та над нами просвітися,
Просвітися!.. Будем, брате,
З багряниць онучі драти,
Люльки з кадил закуряти,
Явленними[34] піч топити,А кропилом будем, брате,
Нову хату вимітати!
Страшно впасти у кайдани,Умирать в неволі,
А ще гірше — спати, спати,
І спати на волі —
І заснути навік-віки,
І сліду не кинуть
Ніякого: однаково —
Чи жив, чи загинув.
Не говорите мне: он умер, — он живет,Пусть жертвенник разбит, — огонь еще пылает,
Пусть роза сорвана, — она еще цветет,
Пусть арфа сломана, — аккорд еще рыдает!..
Как мало прожито,Как много пережито!
Снова лунная ночь, только лунная ночь на чужбине.Да не тянет меня красота этой чудной природы,
Не зовет эта даль, не пьянит этот воздух морской,
И как узник в тюрьме жаждет света и жаждет свободы,
Так я жажду отчизны, отчизны моей дорогой.
Правилу следуй упорно:Чтобы словам было тесно,
Мыслям — просторно.
Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,Кто бы ты ни был, не падай душой!
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей.
Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь:
Верь, настанет пора — и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!* * *
Если о Надсоне я могу сказать, что он меня видел (в колыбели), а я его нет, то другой знакомый матери и сейчас, как живой, стоит перед моими глазами. То был Григорий Мачтет, народоволец, один из ранних русских социалистов, автор популярных в свое время очерков, рассказов, романов и знаменитой на весь мир песни «Замучен тяжелой неволей».
В те годы Григорий Александрович Мачтет проживал с семьей в Житомире, в должности акцизного чиновника.
Хотя писателем и газетным работником он был очень плодовитым ипроизведения его печатались в «Русской мысли», «Русских ведомостях», выходили отдельными изданиями, но гонорар бывал всегда таким малым, что приходилось служить, чтобы прокормить семью.
Приезжая по своим служебным делам в Киев, он никогда не миновал «Лысенковой хаты». Хорошо помню его у нас на Мариинско-Благовещенской улице. Густая грива черных волос, лишь кое-где пересыпанная сединой, длинная, пышная, «под Короленко», борода и умные, удивительно добрые, очень живые глаза за стеклышками золотого пенсне. Таким запомнился мне автор любимой песни Ильича. Покончив со своими литературными и служебными делами, он обычно вечерами заходил к нам «на огонек». Григорий Александрович объехал чуть не полсвета. Моложе отца лет на десять, он родился в Луцке, учился в Немирове. Исключенный из гимназии за революционные взгляды и открытую симпатию к «государственному преступнику» Чернышевскому, учительствовал в Могилеве-Подольском, там познакомился с Михаилом Старицким. Активный деятель Киевского социалистического кружка, он уехал в Америку, увлеченный идеей создания свободного общества-коммуны по образцу коммуны-мастерской Веры Павловны, героини «Что делать?». Утопические мечты разбились о суровую американскую действительность, и, года два проработав батраком в прериях Канзаса, овладев полностью английским языком, молодой революционер возвратился на родину, увозя из Америки ненависть к белым плантаторам и черному рабству Юга да ряд чрезвычайно интересных для писателя наблюдений.
Человек действия, народник-пропагандист, Мачтет за попытку освободить двух товарищей из тюрьмы сам попадает в казематы Петропавловки. Двадцать месяцев одиночной камеры, долгие годы ссылки за Полярным кругом в Холмогорах, потом в Тобольской губернии, где создавалось лучшее его произведение — роман «И один в поле воин», не сломили его, не изменили его взглядов. Больное сердце Григория Мачтета до конца билось в такт, в унисон с сердцем народа, до последнего вздоха остался он верным своим юношеским идеалам.
Рассказчик Григорий Александрович был редкостный.
В изустных повествованиях он оставался таким же, как и в своих произведениях: поборником свободы и правды, другом всех угнетенных, гнанных и бедных, будь то подольский хлебороб, обездоленный индеец из прерий, негр или силезский ткач.
Как он говорил! Все замолкало за столом, когда, поблескивая стеклышками пенсне, он начинал одну из своих историй о пережитом в воинствующей Пруссии, в Америке или далекой Сибири.
Однажды, помню, он появился у нас со сборником своих очерков и рассказов, вышедших только что из печати. По просьбе отца стал нам читать очерк о Германии, кажется под таким же названием — «Германия». Не знаю, может, потому, что читал сам автор, но в своей жизни мне не пришлось слышать более острого, язвительного памфлета против прусского милитаризма.
Мачтет побывал в Германии по дороге в Америку за год или два после разгрома Франции под Седаном. Он грезил Германией Шиллера и Гейне, Гегеля и Гёте, а увидел сытое, самодовольное лицо Германии-убийцы, Германии-грабительницы. В вагонах высокомерные бюргеры в мундирах фельдфебелей пьяно хвастались своими подвигами в «аморальной» Франции, своими «победами» над женщинами и детьми, зверскими убийствами. В песнях («Deutschland über alles»), в самой атмосфере бюргерской, бисмарковской Германии было что-то удушливое, угрожающее всему миру. В Гейдельберге, в этом былом светоче знаний, пьянство и дуэли стали содержанием студенческой жизни, а девизом их: курить, пить и молчать, не думать ни о чем (за всех думает бог и «железный канцлер»). Сентиментальные песенки студентов все чаще заглушались армейскими маршами.
Такой увидел Германию русский революционер в 70-х годах. Немало ядовитых зерен было тогда рассеяно по немецкой земле, гитлеровским чертополохом взошли те зерна спустя полвека.
С этим очерком связана история знакомства Мачтета с Некрасовым. Простой, скромный человек, Григорий Александрович никогда не афишировал свои знакомства со многими выдающимися русскими писателями, но встречей с Некрасовым явно гордился.
Было это, по его словам, так: написав свою «Германию», Григорий Александрович порешил, чем черт не шутит, попытать счастья в «Отечественных записках». Передал рукопись в редакцию, а через неделю отправился за ответом. На Некрасова — «певца печали и гнева народного» Мачтет, как и вся революционная молодежь, мало не молился. Нетрудно представить себе, какие чувства охватили его, когда он переступил порог некрасовской квартиры.
Встретил его Некрасов приветливо и сразу сказал, что очерк будет напечатан в одном из ближайших номеров. Стал детально расспрашивать об американских впечатлениях, планах на будущее. Глаза его блеснули из-под насупленных бровей ласковой и мягкой усмешкой:
— По одному произведению, так я думаю, трудно судить о таланте человека. Нередко бывает, что на первом произведении этот талант и кончается. И все же мне уже теперь кажется, что из вас настоящий писатель вытанцуется. Вы умеете любить и… кусаться.
С этим благословением Некрасова Мачтет и вступил на тернистый путь русского литератора.
Как-то, не помню уже, по какому поводу, отец заинтересовался историей песни «Замучен тяжелой неволей» (сам автор называл ее «Последнее прости»).
— Было это незадолго до моего ареста, — рассказывал Мачтет, — мы провожали в последнюю дорогу студента-медика, замученного царскими палачами за распространение листовок. Я и не думал, что соберется столько народу. Даже полиция и та растерялась, не стала мешать. Никогда раньше не чувствовал я себя таким сильным, таким уверенным в правоте дела, которому давно уже решил посвятить свою жизнь. Разве это не счастье — так жить и так умереть? Тогда и зазвучало во мне «Последнее прости».
Больше всего Мачтет ненавидел так называемую «цивилизацию» угнетателей-колонизаторов. Помню несколько его историй о плодах «святой цивилизации» в Америке.
Самое плачевное явление там — оседлые индейцы, которых коснулась рука американской цивилизации. Когда-то храбрые охотники, гордые воины, они стали бесправными нищими.
За бутылку виски белый цивилизатор для потехи покупает у своего «красноликого брата» его жену, сестру, дочь. Стыдно делается за такую «цивилизацию», когда видишь ее плоды. Как тут не вспомнить Пушкинаp>Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, иль тиран.
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
Первый памятник украинскому писателю. — «Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди». — В Галиции. — Встреча с Франко. — Город с австрийскими генералами и славянской душой. — «Рождественская ночь» и… «Золушка».
Наконец мы едем в Полтаву! Позади годы ожидания, хлопоты, тревоги, мышиная возня вокруг памятника Ивану Котляревскому, зачинателю, батьку украинской литературы, автору «Энеиды» и «Наталки-Полтавки». Чего только не повыдумывали царские держиморды, чиновники-крючкотворы, лишь бы «не допустить», «запретить» первый памятник украинскому писателю на территории империи — тюрьмы народов. Так, например, было объявлено, что сбор общественных средств на памятник можно проводить лишь в «границах Полтавской губернии». Мстили народному певцу и свои «братья-украинцы», паны и полупанки, потомки тех старшин, которых в нарисованном Котляревским пекле «за те там мордували і жарили з усіх боків, що людям льготи не давали і ставили їх за скотів». — Рад я за своего земляка. Как ни хитрили пьявки-начальники — Ісправники все ваканцьові[35], Судді і стряпчі безтолкові, Повірені, секретарі, — что ни выдумывали подлые родичи, а пришлось им отступить. Памятник батьку нашему стоит и будет стоять века. Эту импровизированную речь отца встретили в вагоне дружными аплодисментами. В нашем вагоне представители чуть ли не всего литературного и артистического Киева: солисты оперы, Карпенко-Карый, Садовский, Саксаганский, хор отца, общественная делегация с большим венком. Отец, на редкость бодрый, оживленный, и в пути не переставал заботиться о праздничном концерте. Устроил две «генеральные» спевки уже «а капелла» и все следил, чтобы кто из хористов, не дай бог, не застудил себе горло. — Помните, друзья, не одна Полтава — вся Украина будет нас слушать. В разговорах, пении, декламациях дорога промелькнула незаметно. Вот и Полтава. Нас встречает делегация местной интеллигенции. На улицах народу — страсть. Только и слышно: — Вот как! И Садовский с труппой прибыл! Галичане, смотри, тоже тут! …Настал час открытия памятника. На площади — тысячи людей. У пьедестала — организаторы празднества, члены земства и городской думы, гости. Падает покрывало. С интересом озирает толпу Иван Котляревский. Совсем молодой. Вероятно, таким писал первые части своей вечно живой «Энеиды». Потом, как водится, начались речи: и процедурно-официальные и искренние, сердечные… Рядом с ораторами стояли «неизвестные» в штатском, и все знали: они следят, чтобы, как предупреждалось заранее, не было никаких «крамольных, зажигательных» речей. После официальной части картина возле памятника резко изменилась. Паны отъехали, и сразу не стало видно фраков, элегантных дамских уборов. Плахты, запаски, вышитые сорочки, чумарки и брыли буквально облепили подножие памятника. То родные братья и сестры Наталки-Полтавки, внуки и правнуки старой Терпилихи пришли в гости к своему певцу. Начиналось «бабье лето». Стоял теплый августовский день. Освещенный яркими лучами, согретый солнцем и народной любовью, бронзовый Котляревский улыбался людям, которым служил верой и правдой всю свою жизнь. Эта «неофициальная», непредвиденная программой встреча народа с Котляревским больше всего взволновала отца. Какие-то незнакомые люди подходили к нам, поздравляли, целовались, как на пасху. На следующий день банкет-обед, устроенный городом для почетных гостей. Организаторы его из уважения к Котляревскому решили повторить знаменитый «обед у Дидоны». Чего только не было на длиннейших дубовых столах! Чего только не ели и не пилиp>Свинячу голову до хріну,
І локшину на переміну.
Потім з підлевою індик;
На закуску куліш і каша,
Лемішку, зубці, путрю, квашу.
І з маком медовий шулик.І кубками пили слив’янку,
Мед, пиво, брагу, сирівець,
Горілку просту і калганку,
Куривсь для духу яловець.
Де общее добро в упадку,Покинь отця, покинь і матку,
Лети повинність ісправлять!
Сонце гріє, вітер вієЗ поля на долину.
Над водою гне з вербою
Червону калину;
На калині одиноке
Гніздечко гойдає, —
А де ж дівся соловейко?
Не питай, не знає.
Сонцем засіяла.Не вмре кобзар, бо навіки
Його привітала.
Программа торжественного юбилейного вечера в честь 35-летия творческой деятельности Лысенко (Киев, декабрь 1903 г.). Хор-гимн «Вечный революционер» Лысенко. Слова И. Я. Франко (1905 г.)
Хор-гимн «Вечный революционер» Лысенко. Слова И. Я. Франко (1905 г.)
Отец сыграл Ивану Франко весь первый акт оперы (возле Братского монастыря) и второй акт (на хуторе в хате Тараса). Когда дошло до думы кобзаря «То не чорна хмара над Вкраїною встала», Франко воскликнул: — Ведь это же сам народ говорит! Как это все точно и выразительно передано в музыке! Ободренный таким приемом, Николай Витальевич спел гостю плач матери из сцены прощания с Остапом и Андреем. Франко долго молчал, потом, поднявшись, со слезами на глазах подошел к отцу и обнял его. …С благоговением перебираю старые письма: они хранят тепло рук Ивана Франко и моего отца… Деловые письма без дружеских излияний, но сколько в них взаимного уважения, любви к народу, к музыкальной культуре Украины. «Позвольте одновременно просить вас о помощи для «Зорі», которая выходит под моей редакцией, — пишет Иван Франко Николаю Витальевичу 13 декабря 1885 года. — Мне очень хотелось бы давать в ней время от времени работы о нашей народной и артистической музыке». Франко-редактор, не откладывая дела в долгий ящик, тут же предлагает Лысенко две темы: «Характеристика украинской народной музыки в сравнении с русской», «Обозрение художественной украинской музыкальной продукции». Николай Витальевич не замедлил откликнуться на это письмо. «…Хотел бы, добродию, очень помочь «Зорі»… но боюсь обещать, ибо так загружен работой, что даже творчеству редко когда отдаюсь. Если случится возможность, то верьте слову — не пущусь на хитрости, напишу и отошлю, а тем часом пусть молодые пишут. Пусть пишут, только бы не спали, пусть работают, авось выработаются; додумаются, если есть талант, способности, желания». Интересно, что как ни перегружен был работой Николай Витальевич, даже это письмо — вынужденный отказ от сотрудничества с «Зорі» — как-то само собой вылилось (так велико желание Лысенко помочь Франко, братьям галичанам) в законченный труд, программную статью. Едко высмеивая тех западноукраинских теоретиков, которые призывают избегать народно-песенной тематики, якобы суживающей свободу художника, композитор пишет: «Нет, нет у вас (в Галиции) реальной школы. Без нее и в музыке и в поэзии вы довеку будете не самими собою; все прозябать вам по задворкам самой худшей австрийской продукции… Мы… куда в лучших обстоятельствах находимся. Времена псевдоклассики у нас позади, у вас же она как раз процветает. И тем хуже, что при всем этом у вас такая чудесная песня народная». Вновь и вновь призывая молодых музыкантов Галиции собирать и изучать народные песни, Николай Витальевич и тут советует «учиться… по великим образцам русского искусства». «Да пусть бы кроме моих сборников народных песен, присмотрелись, как собраны и обработаны песни великорусские у Балакирева, Корсакова, Чайковского, то, может, и у самих появится желание собрать и так музыкально упорядочить. А то чего же в самом деле бросаться в квартеты салонные… если под ногами нет почвы, на которую можно было бы опереться. Что же нового скажешь, чем удивишь, если из здорового, свежего источника не напился, да и охоты не имеешь». «Здоровый, свежий источник» Лысенко видит в народной этнографии… «в бесценных жемчугах народной устной музы». «Познакомьте, голубчик, с этими мыслями ваших молодых людей, — просит композитор, — вы уважение, голос, влияние на них имеете». Долгие годы шли письма из Львова в Киев на Рейтерскую и улицу Саксаганского, а из Киева во Львов на улицу Линдого, дом № 3, где проживала семья Франко. И только на юбилейных празднествах Николай Витальевич снова встретил друга. На этот раз в его родном городе. Иван Франко, кстати, оставил весьма интересные и ценные воспоминания о «Лысенковых днях» в Галиции. «6-го и 13 декабря, — писал И. Франко в журнале «Літературно-науковий вістник» за 1904 год (книга 1), — радушно принимала Восточная Галиция и Буковина необычного и дорогого гостя и по необычному случаю. Принимала Н. В. Лысенко по случаю юбилея 35-летней его деятельности, как украинского композитора и организатора певческих хорой. От самого вступления на Галицко-Русскую землю и до отъезда за русскую границу был наш дорогой гость предметом шумных и искренних оваций, речей, угощений и всякого рода почитаний. Специальный же Львовский праздник 7 и 8 декабря и вообще пребывание Лысенко во Львове — это было такое великое и чисто русское празднество, какого еще не видела старая столица Льва. Центром того празднества, тех оваций, речей, похвал и почитания была, разумеется, особа юбиляра. Ему пришлось, так сказать, с головой окунуться все те дни в туман кадила и энтузиазма, какого он до сих пор никогда не знал. Наш славный композитор, человек очень простой и скромный, занимает в Киеве скромное место частного учителя музыки и, если где чувствует себя господином и властелином широких просторов, то разве в сфере тонов в музыке. Он привык встречать в той сфере непринужденную искренность и дружескую симпатию; артист всей душой, он не привык обращать внимание на формальности и этикет и чувствует себя против них беззащитным и беспомощным, как ребенок. Каково же ему было, когда в Галиции сразу же попал он в общество людей во фраках, белых галстуках и перчатках, людей, готовых каждую минуту произносить шумные речи, умеющих отгадывать каждое его намерение и прежде всего успокаивать его, когда здесь сразу комитеты, так сказать, конфисковали его, ограничили и расписали все его время, все выходы, визиты. «Держат меня, как коронованную особу, — шутил он. — Теперь ко мне кому-нибудь и доступа нет! Вот какой я теперь!» Особенно дивила его искусность мало не каждого галичанина говорить речи. «Да тут у вас каждый как станет тебе резать речи, то я слушаю, слушаю да и язык во рту забываю. Куда нам сравняться с «вами!» — так говорил он со своим обычным, искренним удивлением. Но приходилось ему выслушивать еще и не такое. Когда-то из уст самого Лысенко слышал я историю о том, как он в 1873 году, еще никому не известный в Галичине, ехал со Львова до Стрия, а оттуда балагулой перебирался через Синевицкое, Скола, Козову, Плавье и Клымец в Венгрию, направляясь через Будапешт к Вене. В Галиции была тогда холера, и нашего композитора во время переезда через подгорные и горные села непрестанно сопровождали причитания по умершим и песни, тоже звучащие как причитания. «Так они все время и витали надо мной, эти ваши причитания, — рассказывал Николай Витальевич, — и я никогда не знал, высказывают ли у вас этими тонами радость, печаль или плач по покойникам» И когда я пытался спеть ему некоторые наши жалобные песни, он узнал в них те давние звуки, что летали над ним, как вороны, в холерный год во время его поездки. Он очень заинтересовался нашими народными песнями, записал от меня некоторые мелодии и обрадовался немало, услышав от меня, что кое-кто из наших музыкантов собирает те наши мелодии и желает по его примеру обработать и издать их». Иван Франко был на празднествах не только гостем. Именно ему, как мне стало известно, принадлежит текст приветственного адреса юбиляру, вдохновенного обращения общества имени Ивана Котляревского во Львове к Миколе Лысенко: «Высокоуважаемый добродию! Как имя Ивана Котляревского, патрона нашего общества, неразрывно связано с возрождением украинской поэзии, так само ваше имя связан о с возрождением украинской песни, украинской музыки. Вы, как никто перед Вами и рядом с Вами, вникли глубоко в душу нашего гения, окрылили нашу народную песню своим талантом и разнесли ее славу широко по Славянщине. Но, кроме того, Вы создали нашу национальную музыку, и имя Ваше, озаренное всеми чарами родных мелодий, вовеки будет стоять высоко в ряду творцов, в ряду тех, что возносят душу своих современников над буднями, в ряду тех мастеров живых тонов, что умеют одинаково понятно говорить со всеми людьми и всеми поколениями, но наиболее понятными бывают своим близким. Примите же в радостный день Вашего юбилея искреннее приветствие от нас, благодарных Вам земляков, членов общества имени Ив. Котляревского во Львове»[39]. Эти прекрасные слова, конечно же, мог написать лишь великий Франко, вдохновенный поэт и мыслитель, больше чем кто-либо понимавший место и значение музыкального искусства в развитии человеческой культуры. Эти слова — знаменательный символ крепкой, идейно-творческой дружбы двух выдающихся деятелей Украины… Скромный человек, как говорил Иван Франко, «скромный учитель частных лекций музыки», отец не без издевки над «вознесенным до небес юбиляром» рассказал нам о «цесарской встрече», которую ему устроили во Львове. — Подъезжаю к Львову. Вижу на вокзале огромную толпу. Ну, думаю, сам цесарь Франц-Иосиф решил своей особой осчастливить львовчан. Вот попал в недоброе время! Выхожу из вагона, уже стал на подножку, когда, смотрю, подходит ко мне Н. Вахнянин (известный галицкий композитор. — О. Л.), приветствует. И люди кругом снимают шляпы, поют многолетие, тут я понял, что это меня так встречают, что, выходит, я и являюсь той «цесарской персоной». Не знаю, что чувствуют цари, короли и принцы в таких случаях, а на меня все это так подействовало, что я как во сне вышел из вокзала и отбыл в город. 24 ноября Львов чествовал юбиляра в большом зале филармонии. Около двух часов выступали руководители делегаций, прибывшие во Львов из разных городов и сел Галиции. Объединенный хор из восьми «Боянов» исполнил произведения юбиляра. Славный подарок «любимому дидусю» подготовили дивчатка Львовской школы имени Шевченко, выступив перед ним в Народном доме с его детской оперой «Коза-дереза». Всюду во Львове отец был желанным гостем. Вместе с Иваном Франко побывал он в «Научном обществе имени Шевченко», в музеях, а в свободное время бродил по живописным площадям и улицам древнего города «золотого Льва». После Львова — Станислав, Коломия, Черновицы. И что было дороже всего отцу: не только местная интеллигенция, не только горожане, образованный люд, а тысячи селян встречали его. И сюда, за стремительный Черемош, залетела его песня. Высокие гуцулы, девчата в узорчатых безрукавках, словно горные маки пламенеющие в толпе, пели «Верховину» и другие песни. Триумфальное турне Николая Витальевича по Западной Украине и Буковине завершилось в Черновицах, древнем украинском городе с австрийскими генералами, немецким языком и славянской душой. — Никому той души не вытравить, ни Францу-Иосифу, ни римскому папе, — говорил отец, глубоко взволнованный торжественной встречей, юбилейным концертом в Черновицах. «Украинского бояна», «Тараса в музыке», как говорилось в приветствиях, встречали представители университета, местные композиторы и поэты, гуцулы из ближайших буковинских сел. В газете «Буковина» писалось в те дни, что Лысенко «пробудил веру и надежду, придал силу утомленным телом и душой». На большом народном концерте Лысенко чествовали легени[40] из горных селений, портные и сапожники, мастера-резчики, в чьих пальцах простое полено превращалось то в забавных медвежат, то в горного чабана с трембитой. Несколько художественных изделий подарено юбиляру, и, помнится, они долго стояли в отцовском кабинете на самом почетном месте. Вечером общественность города организовала в честь Лысенко большой концерт. Особенно понравился отцу квартет для мужского состава композитора О. Нижанковского на слова буковинского поэта Федьковича «Гуляли». — Лесным духом, горными ветрами и слова и мелодия навеяны, — говорил он. — Даже австрийская муштра не оторвала Федьковича от народной славянской почвы. И песней и судьбой своей похож на нашего Тараса. Была муштра в цесарском войске, были травля, преследования, были попытки онемечить его душу, его музу, но горным орлом взлетел — орлом остался по самую смерть. Из Галиции юбилейные празднества в честь народного композитора широкой волной прокатились от Черемоша до Днепра. В Киеве они начались 19 декабря. Первыми чествовали юбиляра украинские актеры. В театре русской драмы «Бергонье» труппа Садовского и Саксаганского поставила оперетту «Черноморцы». После спектакля хором, солистами и оркестром труппы была исполнена первая кантата юбиляра «Бьют пороги». Я сидел рядом с отцом. Когда новый шквал аплодисментов прокатился по залу, он, помнится, наклонился ко мне и сказал: — Не думай, Остап, что это меня, — нет, то нашу песню, взлелеянную, выпестованную народом, чествуют люди. Не умрет, не сгинет она никогда! Отца пригласили на сцену. При открытом занавесе началось публичное чествование. Микола Садовский, как был в гриме, зачитал приветствие от имени украинского театра: «Украинский театр с самого начала своего существования крепко связал себя с музыкальным искусством. Нельзя теперь себе представить наш театр без музыки, песни, — она является органической частью его. И первый, кто начал работать в области театральной музыки, кто поднял музыку в театре до настоящих идейно-художественных высот, — это Микола Лысенко». По сцене, где стояли артисты, по всему залу прокатилось: «Слава! Слава! Слава!» Взволнованному, смущенному юбиляру Садовский и Саксаганский подносят серебряный венок, и снова гремит: «Слава, слава, слава!» На второй день состоялся грандиозный вечер, устроенный Литературно-артистическим обществом. В переполненном зале Купеческого собрания (теперь зал филармонии) гости со всей Украины искренне и сердечно приветствовали отца. Кажется, не будет конца адресам, телеграммам из Петербурга, Москвы, Берлина, Праги, Софии, Варшавы, Тифлиса… Кто-то из организаторов вечера читает приветствие, присланное накануне Михаилом Коцюбинским. «Высокоуважаемый Николай Витальевич! Общее собрание Черниговского музыкально-драматического кружка приносит Вам сегодня и свою лепту признания и благодарности. Тридцать пять лет Вы наделяли всех богатством своей души и сложили в сердцах наших целые сокровища, с которыми мы теперь, благодарные и богатые, приходим на Ваш праздник. Песней своей Вы вели нас, куда сами хотели. Вы раскрывали сердце наше для добра, для любви, делали его чувствительным к красоте, гордым за прежнее, крепким надеждой. Вы настраивали струны сердца нашего на высокий лад, и теперь — слышите всенародный аккорд, что звучит на Украине? То для Вас! Пусть же долго звучит душа Ваша согласно с народной, пусть еще долго живет и после смерти не умрет наш славный Боян — Микола Лысенко!» На эстраде целая делегация: девчата в венках, живописных национальных костюмах, дядьки и парубки. Это наши давние знакомые из Романовки, той самой, где отец вместе с Тадеем Ростиславовичем Рыльским не одну песню записал. Как-то непривычно им на эстраде, в этом большом зале, переполненном людьми. Но голос романовца крепнет с каждым словом. — Благодарим от щирого сердца за ваш труд неустанный, за то, что нас, простых людей, не чураетесь, языка нашего родного, бесталанного не забываете, что нашу песню — тугу о наших обидах и горькой судьбе — на бумаге описали и на всесветный суд выставили. Дай же вам боже еще долго и счастливо прожить. Слава вам, наш соловейко, слава! Не обошлось на этом торжественном вечере без инцидентов. Некоторые «крамольные» приветствия разгневали блюстителей порядка, а их немало было в зале. Когда после приветствий начался концерт, вызвали в артистическую комнату организаторов вечера. — От такого юбилея и до тюрьмы недалеко! — раскричался офицер, требуя немедленной передачи всех приветственных адресов. Пришлось, однако, полицейским ищейкам возвратиться ни с чем: «крамольные» адреса по прочтении их на эстраде были сразу надежно упрятаны от «недреманного ока». А концерт продолжался. Выступил уже знакомый нам селянский хор из Охматова под руководством Порфирия Демуцкого. То бурным потоком, то нежным ручейком лились мужские и женские голоса большого слаженного хора. В его исполнении оживали тончайшие нюансы народной песни. Общее восхищение вызвала кантата К. Стеценко, посвященная юбиляру и исполненная под руководством автора. Второй концерт, организованный О. П. Косач, в котором исполнялись уже оригинальные произведения отца, состоялся 21 декабря 1903 года в Киевском оперном театре. Концерт стал еще одним триумфом Миколы Лысенко. В исполнении известной певицы русских театров Дейши-Сионицкой и лучших оперных певцов самоцветами засияли песни на слова Шевченко, фрагменты из оперы «Тарас Бульба»… А вечером — «Рождественская ночь». В последний раз она видала киевскую сцену почти тридцать лет назад, и то в любительской постановке. Теперь «Рождественская ночь» предстала перед зрителями во всей своей красе. Большой симфонический оркестр, исполнители — выдающиеся оперные певцы, прекрасное декоративное оформление, но… Отец, сидя в ложе, вспоминал былое… Какую борьбу пришлось вынести, чтобы первая украинская национальная опера, пусть и в скромном уборе музыкальной комедии, увидела сцену. Великая сила была в том «любительстве», сделавшем возможным первую постановку «Рождественской ночи». Вспомнил отец, как он волновался на сцене перед началом спектакля: — Я выглянул в щель занавеса и обмер. Зал битком набит. Выдержим ли испытание? А что, если провалим? То-то обрадуются царские подхалимы: дескать, и хохлам оперы захотелось, да не вышло. Я пошел за кулисы, подальше от сцены. Донеслись первые звуки увертюры. Прислушиваюсь, дальше… дальше… конец увертюры — и гробовая тишина. Провал! И вдруг как заплещет, загрохочет… Подбежали ко мне хористы: «Николай Витальевич, дорогой! Вы слышите, что делается в зале?» Сразу отошло. Ну, слава богу, «наша дума, наша пісня не вмре, не загине»! «Є, що показати людям, Є, ще порох в порохівницях, ще не полягла козацька слава»! — Та, «любительская», — говорил нам отец в антракте, — настоящая «Золушка» против сегодняшней красавицы, а сердцу дороже. На этом празднества в Киеве закончились. Позже большой юбилейный концерт состоялся в Петербурге. С большим успехом исполнялись артистами Мариинского оперного театра произведения юбиляра. Горячо приветствовали отца во время этого концерта Римский-Корсаков, Глазунов. Юбилейные концерты прошли и в других городах. А впереди уже стелились новые нехоженые дороги; звали новые думы и заботы, творческие планыh3> ЛЫСЕНКОВА ШКОЛА

Памятный разговор. — Гость из Стайков. — На народной основе. — Педагоги. — Любимые ученики отца.
Приближался конец 1903 года… Отшумели юбилейные концерты во Львове, Черновицах, Киеве, Чернигове. Почему же не спится юбиляру? Ночами доносится из кабинета тяжелая поступь. Почему все чаще вижу отца углубленным в тревожные думы? В морозный декабрьский день мы с ним навестили больного Михаила Старицкого. — Рад я за тебя, Микола, друже коханый, — первым заговорил Михайло Петрович. — Рад видеть, как чтит тебя наша Украина. — Что правда, то правда. Напился я за этот год и почитаний и речей хвалебных, что твоего меду дедовского. Как вспомню — стыдно перед народом. Заслужил ли я это? Сделал ли, что мог? И, главное, все труднее мне на старости одному тянуть воз. Умру я, кто продолжит начатое? Одна у меня надежда — школа. Нужна школа, прежде всего школа. Сколько талантливых людей на Украине! Без знаний они как птицы без крыльев. Помнишь Середу? Не знаю, вспомнил ли тогда Старицкий Петра Середу, нежданного гостя нашего из села Стайки, но, право, о нем стоит рассказать. Случилось это года за три до юбилея. — Здесь живет Микола Лысенко? — спросил какой-то незнакомый дядько, уже в летах, в поношенной, но чистой одежде, как только я открыл дверь. Отца не было дома. Я пригласил гостя в комнату. Тот сначала заметно волновался, но вскоре свыкся. Не прошло и часа, как я все уже знал о нем. Оказалось, гость из Ржищевского уезда Киевской губернии. — Рисовать — большая охота. И еще музыку люблю. Играю на цимбалах, считай, с детства. А учиться не довелось. Мужик я, гречкосей. Не про нас наука. Да вот потянуло. Семью оставил. Несладко им будет, хоть добрые люди обещали помочь, — делился он своими тревогами. Об отце он слыхал давно. А тут еще сельский учитель подзадорил. — Грех вам, Петре, закапывать свой талант, — покажитесь Миколе Лысенко, нашему Кобзарю. Обязательно поможет. Так и очутился Середа в нашей квартире. Скоро пришел отец, долго расспрашивал о семье, давно ли рисует, что делает вообще, чем живет. В ответ гость разложил перед отцом несколько рисунков, сделанных карандашом и углем. Из всех мне больше всего запомнился слепой лирник с поводырем. Не все было верно в композиции, рисунку не хватало простора, воздуха, как говорят профессионалы, но столько природного достоинства и силы чувствовалось в фигуре, в выражении лица старого лирника, что и неопытному глазу видно было: талант, самородок. По просьбе отца Середа сыграл нам на цимбалах. Отцу игра его очень понравилась. — Учиться вам надо, человече добрый. А что годы не те — не беда. Михаил Ломоносов, селянский сын, слыхали, в двадцать лет за парту сел и науку русскую именемсвоим украсил. А наш Тарас? Из крепостных, пастушок. Чего только на веку своем не испытал, а достиг таких вершин, что и образованнейшим панам не снилось. Такое, человече, бывает! — И мечтательно добавил: — Талантливый у нас народ. Дай ему волю, знания — удивит мир! Выбрав удобную минуту, отец велел мне позаботиться, чтобы гость чувствовал себя у нас как дома, а сам кинулся к знакомым, имевшим отношение к изобразительному искусству. И добился своего: скоро Середа стал посещать лекции рисования. Отец внимательно следил за учебой своего «протеже» и чрезвычайно радовался первым успехам сорокалетнего ученика. Недолго, однако, длилась учеба. Однажды Середа пришел к нам сам не свой. — Нет больше мочи. Встретил земляка. Говорит, погибает семья. Как подумаю, что дети, может, по целым дням куска хлеба не видят, не лезет в голову наука и карандаш выпадает из рук. Видно, не за свое дело взялся. Надо семью от голодной смерти спасать. А ласку вашу, доброе слово не забуду никогда. Отец предложил Середе деньги. Отказался. — Я и так задолжал вам. Довольно. Вернусь на свое поле. А рисовать и играть буду без науки, как сердце подскажет… Так и остался Середа начинающим художником. После смерти отца он постоянно навещал меня, приглашал к себе. Еще чаще стали мы встречаться в советское время. Дед Середа стал в своих Стайках душой самодеятельности. Он и сам перед войной чуть ли не каждый год выступал на смотрах и олимпиадах, мастерски играя на своих цимбалах. Надо было видеть Середу на эстраде. Шел ему седьмой десяток, а в глазах все тот же пытливый огонек, ясный ум и осознанное достоинство. С годами он все больше напоминал мне лирника, с такой задушевностью нарисованного им много лет назад. — Вот и сбылось то, о чем мечтал ваш отец. Большой души был человек, — не раз говорил мне Петро Середа. Сам Середа умер после войны. Гитлеровцы, ворвавшись в Стайки, уничтожили его рисунки, разбили цимбалы. — Не цимбалы — сердце мое разбили фашисты, псы поганые, — до самой смерти твердил старый Середа. …Школа, своя школа. Много лет отец мечтал о настоящей народной музыкально-драматической школе, о талантливых учениках, кому бы он мог передать свои знания, свой опыт. Еще в 1868 году писал он из Лейпцига своим родным: «Нужна школа, нужна сейчас же, и такая школа, которая построена была бы на народной основе, в противном случае она даст, как и все у нас, блеклый цвет с иноземными румянами». Сколько за три десятилетия было разговоров, споров о будущей школе! Сколько выдвигалось самим Николаем Витальевичем и его друзьями проектов, планов! Однако, чтобы открыть украинскую музыкальную школу, нужно было добиться разрешения министерства внутренних дел, перебороть сопротивление, интриги врагов украинской культуры, найти педагогов, и, главное… нужны были деньги, а свободных денег у отца не было никогда. Проходили годы… Ни частные уроки, ни лекции в Киевском институте благородных девиц не удовлетворяли отца. — Сколько сил и времени истрачено! И для чего? Чтобы еще одна панночка выскочила замуж, очаровав своей игрой провинциала-кавалера. Давно бы бросил «благородный институт», да, — разводил руками отец, — «грехи не пускают». «Грехи» как раз и заключались в том, что институт оставался единственным средством существования отца, а следовательно, и всей нашей семьи. Так было до конца 1903 года, до встречи с больным Михаилом Старицким. На этот раз Николай Витальевич открыл побратиму совершенно реальный и через несколько месяцев осуществленный план создания школы. Дело в том, что в 1903, юбилейном, году народ собрал довольно значительную для того времени сумму. Предвиделось, что часть денег пойдет на издание произведений юбиляра, а часть — на покупку дома и небольшой усадьбы в дачной местности для летнего отдыха. Этот дом, вернее деньги, выделенные на дом, и стали финансовым фундаментом школы Лысенко. — Прожил я шестьдесят лет без собственного дома и еще проживу, а вот без школы нам не обойтись, — говорил Николай Витальевич. В 1904 году отец арендовал небольшой одноэтажный дом с мезонином на двор по улице Б. Подвальная, № 15 (сейчас имени Полупанова). Вот уже закуплены необходимые инструменты, расставлена школьная мебель, приглашены преподаватели. Наконец появилась долгожданная вывеска: «Музыкально-драматическая школа Н. В. Лысенко».
* * *
— Вырастут, окрепнут наши соколята. И понесут они людям песню и могучее слово, что будит мысли, согревает сердце. Разве не стоит для этого бросить все и целиком отдаться школе! А вы еще раздумываете, идти ли козе до воза, — говорил отец своему другу, прославленному певцу Александру Мышуге, приглашая его на постоянную педагогическую работу. Обычно непрактичный, никогда не отличавшийся административными способностями, отец, однако, сумел сплотить вокруг себя лучшие педагогические силы Украины. Как добился он этого? То ли умением зажечь всех верой в важность существования новой школы, а возможно, многих привлекал авторитет народного композитора, имя основателя и директора школы. Как бы там ни было, школа Лысенко славилась своим педагогическим персоналом. Класс сольного пения вела известная артистка русских столичных театров Мария Зотова, работала в школе Елена Муравьева, чудесный знаток постановки голоса, драматическим отделом ведали Мария Старицкая (талантливейшая артистка, дочь Михаила Старицкого) и режиссер Киевского русского драматического театра Липковский. Историю русской и украинской литературы читал профессор Владимир Перетц, теорию музыки — чудесный педагог, ученик Римского-Корсакова, профессор Григорий Любомирский. Наконец и знаменитый тогда на всю Россию Александр Мышуга, отказавшись от гастролей и уплатив неустойку по контракту, тоже возглавил класс в школе Лысенко. Не только к Мышуге, но и ко всем преподавателям отец относился с большим уважением и тактом. Только однажды, я хорошо помню это, отец резко и гневно оборвал педагога. Преподавательница по классу фортепьяно грубо оскорбила своего ученика-еврея. Отец немедленно уволил ее: — Пока я жив, черносотенцам в моей школе не будет места. Внимательно присматриваясь к работе, педагогическому «почерку» своих товарищей, охотно перенимая их опыт, Николай Витальевич и тут придерживался любимого правила: «Учись, переймай, та свій розум май». Школа давала своим воспитанникам высшее образование, руководствуясь программами консерваторий и музыкально-драматического училища Московской филармонии. Но отец не копировал слепо уже готовые образцы. Все мертвое, отжившее решительно отбрасывалось. Я слушал в школе отца его лекции по композиции и бывал на его практических занятиях в фортепьянном классе. Как важно с самого начала привить ученику (особенно начинающему) любовь к музыке! Бессмысленные, бессодержательные упражнения, бесконечные повторения одного и того же такта вызывают отвращение, ненависть к инструменту даже у очень одаренных детей. Так было в детстве с великим Паганини. Убийственную тоску вызывал у Грига его педантичный преподаватель в Лейпцигской консерватории. Николай Витальевич шел иными путями. Он отбросил догмы канонов, мертвые, бессодержательные технические упражнения, занимавшие в то время весьма важное место в фортепьянной педагогике. Уже на первых занятиях обычно знакомил учеников с народными песнями, с романсами Глинки, пленяющими своей мелодичностью и красотой, на основе их создавал нужные упражнения. — А теперь попробуйте сами проиграть эту мелодию. Смелее, — поддерживал он воспитанников, терпеливо поправляя их. Безгранично радовался, когда кто-либо из учеников, самостоятельно прорабатывая музыкальное произведение, вносил что-то свое в исполнение. — Так, музыкант обязан много работать, всю свою жизнь учиться, — говорил отец, — но с самого начала, со школьных лет делать это сознательно, с любовью к своей будущей профессии, к искусству.
* * *
В школе Лысенко не было тех паненок и «золотых» франтов из буржуазных и дворянских семейств, которые, заполняя частные и казенные музыкальные училища и Институт благородных девиц, учились музыке от нечего делать, лишь потому, что так было принято в «высшем» свете. Не социальное положение, не национальность, а хороший музыкальный слух, память — для поступающих на драматическое отделение еще и сценическая внешность — были решающими для отца. Школа не имела никаких дотаций, существовала лишь на взносы учеников за правоучение. Большинство учеников — люди среднего достатка или совсем неимущие. Я с самого начала помогал отцу в административных и финансовых делах школы, и сколько раз приходилось мне сообщать ему, что касса школы пуста, что нечем оплатить педагогов, которые (такова была договоренность!) не зависели от своевременных или несвоевременных взносов ученической платы. Отцу приходилось в таких случаях обращаться к займам, снова (в который раз) влезать в долги и как-то выкручиваться, едва сводя концы с концами. И до сих пор с негодованием припоминаю клеветнические наговоры тех «верноподданных патриотов», которые, не ограничиваясь доносами на «неблагонадежность» и «украинофильство» школы, упрямо распространяли слухи, что и открыл школу Лысенко, дескать, исключительно из коммерческих соображений, чтобы «разбогатеть». И это в то время, когда отец, вообще равнодушный к деньгам, отдавал школе дни и ночи, не жалея ни сил, ни последней копейки. Не о прибылях, а о будущем искусстве своего народа заботился Микола Лысенко. Школа была его радостью, его надеждой. И он щедро дарил ей свои знания, свой опыт и талант. Несмотря на исключительно тяжелое финансовое положение, в которое неоднократно попадала школа, он всегда находил возможность освободить от платы за правоучения талантливых учеников из народа, помогал им чем мог. Так было с М. В. Микишей, позднее известным певцом. Выступая в 1902 году со своим хором в Миргороде, Николай Витальевич обратил внимание на самодеятельный хор местной Художественно-промышленной школы имени Гоголя, которым руководил ученик Михайло Микиша. — Сын бедной вдовы. Еще недавно гусей пас, — отрекомендовали хлопца учителя. — Вам нужно учиться. Обязательно приезжайте в Киев. Все сделаю, — пообещал Николай Витальевич смущенному от счастья юноше, внимательно прослушав его. Микише не сразу удалось выехать из Миргорода. За участие в революционном движении он был арестован и лишь в 1904 году, отбыв «наказание» и «гласный надзор» полиции, явился к отцу. Как вспоминает М. В. Микиша, Николай Витальевич сам аккомпанировал ему на экзаменах и тревожился за него, как за родного сына. Микиша не только был освобожден от платы, но и жил некоторое время в нашей семье. — Нужно помочь хлопцу, — делился со мной отец. — Талантливый, а учиться ему трудно. Стипендиатами школы были также телеграфист О. Ватуля, сын бедного портного М. Полякин, семинарист из селян К. Стеценко, сын рабочего Б. Романицкий и другие. Все они оправдали надежды отца. О. Ватуля — народный артист республики, ведущий актер Киевского украинского драматического театра имени И. Франко, М. Полякин стал профессором Московской консерватории, Б. Романицкий — народный артист СССР, художественный руководитель Львовского драматического украинского театра имени М. Заньковецкой. Талантливые воспитанники учились и в большом фортепьянном классе отца. Среди них — Лев Ревуцкий, ныне народный артист СССР, академик, выдающийся деятель украинской музыкальной культуры, и Анатолий Буцкой, профессор Ленинградской консерватории. Хорошо помню лекции нашего профессора теории музыки Григория Львовича Любомирского, воспитавшего целую плеяду выдающихся мастеров украинской музыки; я слушал их вместе с Львом Николаевичем Ревуцким. Будущему композитору шел тогда 15-й год. И нужно сказать, что уважаемый наш лауреат и академик тогда частенько-таки ленился, а еще чаще шалил на лекциях. Но профессор, хотя и делал хлопцу замечания, смотрел сквозь пальцы на его шалости, так как и по теории музыки и по сольфеджио Левко Ревуцкий шел первым. Задачи по музыкальному диктанту он решал раньше всех, точно и как-то сразу схватывая диктуемое. У отца и Любомирского учились и Кирилл Григорьевич Стеценко, тогда руководитель семинарского хора, и Виктор Иванович Кривусев, музыковед, и Александр Антонович Кошиц, руководитель студенческого хора. Они были ближайшими помощниками в организации и руководстве школьным хором и, объединившись вокруг отца, стали средоточием композиторской молодежи. Они чрезвычайно содействовали развитию украинской музыкальной культуры, в частности — появлению многочисленных композиторских кадров. С разных концов Украины потянулась талантливая молодежь к Лысенковой школе. Ободренный успехами, отец целиком отдался ей даже в ущерб своему творчеству, для которого оставались лишь ночные часы. Часто возвращался он домой уже в полночь, утомленный, с нездоровыми припухлыми мешочками под глазами, но в приподнятом настроении. И все, что говорилось в те ночные часы, было связано с различными моментами школьной жизни, с планами на будущее. Больше всего радовался он успехам своих любимых учеников — К. Стеценко и Л. Ревуцкого. — Нет, не перевелись на нашей земле таланты. А сколько не открытых еще рассеяно по всей Украине, сколько их растоптано самодержавным чеботом! Школа наша помогает единицам, а за дверьми остаются сотни, тысячи народных самородков. До каких пор будет это? До каких? — тихо неведомо кого переспрашивает отец. — Как подумаю об этом, сердце болитh3> «ДУХ, ЩО ТIЛО РВЕ ДО БОЮ»

«Вечный революционер». — Конституция «по-царски». — Вести из Знаменки. — Стопроцентный подданный. — Смерть Андрея Витальевича. — «Для народа живи и твори»
Что-то нашего Антона давно не видно. Не заходил Калита? — нередко, возвращаясь из школы, спрашивал отец. На наш отрицательный ответ сокрушенно кивал головой: — Как бы «духи» не взяли! Как ручейки сливаются в полноводную реку, так отовсюду, из самых глухих сел и местечек Украины стекались к отцу услышанные и записанные его многочисленными корреспондентами народные песни, мелодии. Среди корреспондентов — и старые университетские друзья, и учителя церковноприходских школ, и селяне (кому с грамотой повезло). С богатым запасом песен всегда приходил к нам Антон Калита из Борисполя. Был он крестьянин из батраков, поражал своим книголюбием и какой-то, я бы сказал, подчеркнутой интеллигентностью, одухотворенностью лица. Николай Витальевич, помнится, называл его (надо полагать, не только за внешность) «апостолом правды и науки». Опасения насчет «духов» тоже были весьма обоснованными: из Киева Антон Калита никогда не возвращался с пустыми руками. Добрые люди (студенты, ученики Лысенковой школы) постоянно снабжали его прокламациями, нелегальной литературой. Осенью 1904 года Калита снова появился в нашем доме. На этот раз не один. — Земляки-бориспольцы, такие, как я, гречкосеи, — представил гостей Антон. — Порешили мы, Николай Витальевич, землю панскую отобрать, делить на всю громаду. А оно кое-кому и хочется и колется. И тяжко ярмо панское нести и боязно бросать. Вот к вам и пришли за советом. — Справедливое дело надумали, — отец разволновался, обнял Калиту. — А совет мой какой?.. «Треба миром, громадою обух сталить, та добре вигострить сокиру». Хорошо сказал Тарас. Лучше не посоветуешь. И после их ухода, возбужденный, сияющий, все повторял: — Сбываются мечты Тараса. Пробуждается народ. Как не радоваться этому! Революция… Всюду ощущалось ее горячее дыхание. Горели поместья. Из далекой Маньчжурии ползли солдатские эшелоны с таким зарядом ненависти к прогнившему самодержавию, что для взрыва достаточно было искры. — Запомни мои слова, Остап. Добром это для Миколки и иже с ним не кончится, — говорил отец, когда в газетах появились первые полные противоречий слухи о «кровавом воскресенье». — С кровавой Ходынки начал, на крови стоит, в крови захлебнется. Отец не принадлежал ни к одной политической партии, но в его симпатиях к революционерам никогда не сомневались даже жандармы. В деле жандармского управления № 17 за 1884 год, которое хранится в Киевском центральном архиве, так и сказано: «Учитель музыки Николай Витальевич Лысенко (композитор) агитировал среди студентов к беспорядкам». А вот что Николай Витальевич сам писал почти двадцать лет спустя моей старшей сестре Екатерине Николаевне Масленниковой: «Наши тебе уже описывали волнения студентов и рабочих в Киеве. Юру Старицкого (сына М. П. Старицкого. — О. Л.) арестовали, и он отсидел что-то больше недели в тюрьме; Остап тоже там был, но убежал своевременно и только отсидел в гимназии (что-то часов шесть) в карцере. Надеются, говорят, на новые волнения 19 февраля и, говорят, более грандиозные. Правительственные тоже готовятся со стрельбой. Плохо! Много будет жертв». Даже из письма, предназначенного для цензуры, видно, с каким сочувствием относился композитор к рабочим и студенческим волнениям. Мне это письмо вдвойне дорого. В нем крупица и моей молодости. …Несколько дней в городе упрямо «носились слухи: готовится студенческая демонстрация против массовых арестов среди революционной молодежи. Возвращаясь из гимназии, я то и дело натыкался на городовых, околоточных, шпиков. «Готовились» и дворники — тоже нередко платные агенты полиции. В воскресное утро задворками, чтобы не попасться на глаза гимназическому «педелю», пробираюсь к университету, за неповиновение покрашенному по повелению Николая I в красный, «бунтарский» цвет. Тут уже человек двести студентов. Стоят, ждут. Вдруг загрохотал чей-то голос: — Пошли, товарищи! Медленно двинули по Владимирской. У демонстрантов ни знамени, «и транспарантов. Только песняp>Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами,
Грозите свирепо тюрьмой, кандалами,—
Мы вольны душою, хоть телом попраны.
Позор, позор, позор вам, тираны!
Позор, позор, позор вам, тираны!Вечный революционер —Дух, стремящий тело к бою,
За прогресс, добро, за волю, —
Он бессмертия пример.
Всюду голос клич ведет:У соломенного крова,
У станка мастерового, —
Там, где горе слезы льет.
Крепнет сила, призывая,Чтоб восстали, добывая
Детям, если не себе,
Долю лучшую в борьбе.
Разве есть на свете сила,Чтоб ее остановила,
Чтоб затмила, словно тень,
Разгорающийся день? [42nbsp;Не знаю, поздоровится ли автору, но гимну обеспечена долгая жизнь, — заметил кто-то из гостей. — Вы, Николай Витальевич, не песню, а бомбу сотворили. Синие мундиры не простят вам этого. Тут же стали думать-гадать, как популяризировать «Вечного революционера». Напечатать, конечно, невозможно, о концертном исполнении тоже не могло быть и речи. — Если нельзя легально, — тут же решил Николай Витальевич, — то выпустим нелегально, Вскоре небольшой кружок посвященных разучил в помещении музыкально драматической школы Лысенко «Вечного революционера». Из этой искорки и разгорелось пламя. Гимн «пошел в люди», полюбился рабочим и студенческой молодежи, стал песней-знаменем маевок и демонстраций. «Вечный революционер» — венец хорового творчества композитора. Народность, ярко выраженный национальный колорит гимна типичны для Лысенко. Но ни в одном произведении, созданном до гимна, не прощупываются так отчетливо новые интонации боевого, революционного марша. «Вечный революционер» — духовный брат «Марсельезы», «Интернационала» не только по идее, но и по звучанию. В этом произведении оба творца его, Франко и Лысенко, в одном страстном порыве приветствовали могучую поступь миллионов, их борьбу за волю, за «разгорающийся день». День этот рождался в муках, в крови. Помню, на столбах, на стенах домов царский манифест с двуглавым орлом. Незнакомые люди на улицах обнимаются, целуются. У всех на устах: «Манифест», «Конституция». На думской площади — толпы народа. А к вечеру грохнули первые залпы. Проклятия и гневные крики, стоны раненых и умирающих — все смешалось. Я пробирался какими-то незнакомыми переулками, бежал, точно подталкиваемый в спину. Уже стемнело, когда выбрался на нашу улицу. Гляжу— мне навстречу отец. На нем лица нет. — Слава богу, живой! Не раненый?! Вот тебе и Юрьев день! Вот тебе и царская конституция! Всю Украину охватило революционное пламя. Горела земля под ногами помещиков. Бастовал Донбасс. Восстали железнодорожники Харькова, Киева, Одессы, Знаменки. — Ничего, поделим землю, — несколько дней спустя снова раздался в нашем доме знакомый голос Калиты. — Свою, мужицкую конституцию установим. 10 октября 1905 года паровозные гудки стали сигналом к всеобщей забастовке на Юго-Западной дороге. В тот же день знаменские железнодорожники избрали врача Лысенко — большевика-ленинца — председателем революционного комитета. Отец с нетерпением ждал вестей из Знаменки. Но только в декабре, после разгрома московского восстания, поздно ночью к нам постучался железнодорожник, один из многочисленных пациентов и друзей Андрея Витальевича. Оказалось, арестованы все члены Знаменского ревкома. Андрей Витальевич без следствия и суда отправлен по этапу в Сибирь. Весной 1906 года дяде, уже тяжело больному, удалось бежать из Вятки. С апреля по май он прятался в Киеве на нашей квартире. Жандармы не прекращали розыски врача Лысенко — «возбудителя рабочей массы ко всяким беспорядкам». В Киеве ему больше нельзя было оставаться. Отцу удалось раздобыть для брата заграничный паспорт. Наступил час расставания. До самого рассвета просидели мы в комнате Андрея Витальевича. Навсегда врезались слова, сказанные им отцу на прощанье: — Разными идем мы путями, разным оружием боремся, да всю жизнь, брат, одному хозяину служим — народу. Наступит светлый день, и народ вспомнит нас, обязательно вспомнит! Как ни крепился дядя, грустным вышло прощание. Видно, чувствовал он, что в последний раз видит зеленый Киев, высокие днепровские кручи. За границей Андрей Витальевич жил сначала в Швейцарии, затем переехал во Львов, где с помощью Николая Витальевича устроился на работу в «народную больницу».* * *
В дни революции 1905 года музыкально-драматическая школа Лысенко не без ведома ее директора-учредителя не стала прятаться в тихой заводи «чистой музыки», а двинулась навстречу буре. Некоторые ученики школы (Коваленко, Микиша) влились в васильевскую боевую дружину, организованную для борьбы с черносотенцами. Дружинники часто собирались в школе. Даже подпольная большевистская касса хранилась (снова-таки с ведома Николая Витальевича) в школьном сейфе. Как вспоминает М. Микиша, отец всегда говорил ему в эти дни: — Делайте все осторожно, мудро, а я будто ничего не знаю. И позже отец требовал от своих учеников, участников революционных кружков, суровой конспирации. Лишь так и можно было сберечь школу, когда вокруг одно только и слышишь: «Такой-то — арестован, такой-то сослан, такой-то повешен». — Снова беснуются тираны. — Отец тяжелой поступью меряет кабинет, мрачный, чернее черной земли. — Но ни «солдатские приклады, ни орудия, ни раны, ни поповские обманы, ни шпионов ремесло» не сломят народ. Тучи реакции не придавили к земле и самого композитора. Не случайно именно в эту пору он онов'а возвращается к давнему замыслу. Последняя ночь приговоренного к смерти революционера, его переживания накануне казни, несокрушимый дух оживают в мужественной, драматической, эмоциональной музыке. «Последняя ночь» — так назвал Старицкий свой драматический этюд, привлекший внимание композитора. В этюде Старицкого события происходят в конце XVII столетия. Его герой — вожак восставших против шляхты крестьян Братковский — историческое лицо. Но в музыкально-сценическом произведении Лысенко — страстное, бурное дыхание недавних событий. …Восстание разгромлено. Братковский в тюрьме. Пытки сменяются посулами. Прокурор обещает осужденному на казнь свободу, жизнь, богатство, пусть только назовет имена товарищейp>Іудою не був — нізащо
Ні вірності, ні честі не продам я,—
А в школе Лысенко революционно настроенные ученики в разгаре реакции создают инициативную группу для помощи бастующим и арестованным, в которую входили М. Микиша, П. Коваленко, О. Лысенко и другие. Эта группа, с ведома отца, конечно, в определенных конспиративных рамках устраивала вечера, концерты в пользу потерпевших от царских сатрапов. Помню, наибольший сбор дал концерт при участии Мышуги, кстати, он не раз и из собственных средств пополнял нашу кассу. Мышуга был настоящим кумиром киевской публики. Задушевный лирический тенор, незаурядный драматический талант завоевали ему исключительную популярность. Когда после успешного заграничного турне он снова появлялся в Киеве, его фотографии продавались на улице. Какой-то ловкий кондитер выставил в витрине магазина даже торт «А-ля Мышуга» с шоколадной фамилией знаменитого певца на кремовом фоне. Слава преследовала Мышугу по пятам то в виде надушенных писем прекрасных незнакомок,’ то в образе влюбленных до исступления гимназисток. Сначала Мышуга, человек скромный, отбивался как мог от своей славы, но с годами привык к ней, как каторжник к своим цепям, и уже покорно нес свой «крест». Как бы там ни было, а на концерт Мышуги, о котором мы рассказываем, собрался чуть ли не весь аристократический Киев. Зал полный. Куда ни глянешь — чернеют фраки, томно белеют оголенные плечи, блестят, переливаются при свете шелковые платья. Перед концертом Мышуга, выглянув в зал, рассмеялся: — Если бы вы знали, панычи, и вы, ласковые панночки, на что пойдут ваши деньги! — и, заговорщицки подмигнув нам, с удовлетворением повторил — Если бы вы знали! Концерт Мышуги заметно помог политическим заключенным Смоленской централки. Добрым словом вспоминали также школу Лысенко киевские рабочие и студенты, высланные в Вологодскую и Архангельскую губернии. Им тоже помогла наша группа. Помню один разговор с отцом после такого «политического» концерта. — Да, трудный путь выбрали наши хлопцы — нелегко разбить самодержавную скалу. Пусть же сопутствует им удача. Пусть ««и жар, ни холод» не остановят их! И все беспокоился, не следит ли снова за Микией полиция. А полиция следила. И, видно, не за одним Микишей. Как-то в февральский вечер 1907 года, когда по всему городу шли повальные аресты, настойчиво затарабанили в наши двери. — Открывайте! Полиция. Полиция перевернула все вверх дном в столовой, кабинете. Только случайно не заглянули ретивые держиморды в мою комнату, где как раз находилась солидная партия нелегальной литературы. Во время обыска Николай Витальевич презрительно молчал. Он заговорил лишь тогда, когда с рабочего стола полетели нотные рукописи. — Осторожней с бумагами, господа жандармы. Я требую. Слышите, требую! Физиономия пристава (при обыске так ничего и не нашли) стала багрово-синей. — Собирайтесь! — прохрипел он. — Вы арестованы! Арест, как и обыск, Николай Витальевич встретил спокойно. Помнится, даже пошутил: — Хоть высплюсь за все время. Надел пальто, попрощался со мной и с сестрами. — А теперь, как водится, посидим перед дорогой. И столько достоинства было в голосе отца, что даже «незваные гости» покорились. Сердитый пристав и тот присел. Наутро весь Киев узнал об аресте Николая Витальевича. Отовсюду посыпались протесты. Друзья Николая Витальевича дошли до жандармского управления. Там, видно, поняли, что дело пахнет политическим скандалом. Как бы там и и было, ордер на арест отменили. — Вот и тюрьму отведал, теперь я, — говорил среди друзей Николай Витальевич, — стопроцентный подданный их великомордия.* * *
За границей здоровье Андрея Витальевича ухудшилось. Туберкулез не выпускал из своих когтей ослабевшее тело, день за днем убивал легкие. В 1910 году Николай Витальевич устроил умирающего брата в святошинский туберкулезный санаторий, а спустя несколько недель перестало биться беспокойное сердце врача Лысенко, мужественного большевика, настоящего человека. Отец до последнего дыхания чтил память брата. — Моложе был годами, — говорил о«, — а в жизни частенько случалось мне самому учиться у него. Сколько «друзей» настойчиво толкало меня на тесные тропинки слепого подражания образцам западной музыки, а он, брат, неустанно повторял: «Народное творчество — вот твоя живая вода! Народу нужна твоя песня. Для народа живи и твориh3> «РОДИНА — РОДЫНА»

Письмо в Полтаву. — Украинский клуб. — Почетные гости (Михайло Коцюбинский, Леся Украинка, Днипрова Чайка). — Царский запрет. — Тарасов вечер в Москве
«Что вам живется плохо, это не диво, ибо кого теперь правительство не прижимает, кроме черной сотни и подобной другой рвани-сволочи? А и поделом вам, полтавцам, коли вы все дожили до того, что у вас сознательной жизни нет, все вы, филистеры, позапирались в своих усадьбах, позалазили на украинскую крепость — печь, и нет вам дела до всего на свете, только бы вам спокойно и тепло было… Рабы, подножки, грязь! Кормили когда-то ляхов своим мясом, а теперь единое, неделимое кривословие делают, — писал Лысенко полтавчанину Г. И. Маркевичу. Гневно изобличал он своих земляков— премудрых пескарей. — Ни отпора, ни протеста, ни солидарности между собой… Может, остро я скажу, но желчь кипит от лукавства земляков, которые все бросили, отреклись от всего святого и пошли вслед за разбойничьим режимом и кривословием, приспособившись к пирогу государственному и общественному».
 Группа преподавателей и учеников музыкально-драматической школы Лысенко (1910 г.). В центре — Лысенко.
Группа преподавателей и учеников музыкально-драматической школы Лысенко (1910 г.). В центре — Лысенко.
 Программа концерта-спектакля в Москве (1911 г.), посвященного памяти Т. Шевченко.
Программа концерта-спектакля в Москве (1911 г.), посвященного памяти Т. Шевченко.
 Титульная страница клавира оперы «Тарас Бульба» (1913 г.).
Титульная страница клавира оперы «Тарас Бульба» (1913 г.).
Массовые казни, аресты, погромы — весь этот кровавый пир, которым самодержавие завершило разгром революции 1905 года, глубоко потряс композитора. Велика ненависть Лысенко к палачам народа, но, пожалуй, еще сильнее его презрение к тем украинским интеллигентам-либералам, кто попытался пойти на сговор с царизмом или трусливо забрался на «украинскую крепость — печь». Сурово укоряя других за бездеятельность, примиренчество, покорность, сам Николай Витальевич не сидел сложа руки. — Надо нам объединиться в это трудное время, сообща нести Знание, Слово и Песню людям, — говорил отец в кругу своих друзей-единомышленников. Во время такой беседы и возникла мысль создать вместо запрещенного властями «Литературно-артистического общества» Украинский клуб. Инициативная группа, возглавляемая отцом, с трудом, но добилась разрешения властей. Клуб открыли на Владимирской улице, № 42 (теперь здесь Гослитиздат). — Наконец есть у нас своя «хата», — радовался отец. В правление клуба вошли, кроме Николая Витальевича, Мария Старицкая, Ольга Косач (Пчилка) и другие общественные деятели. В честь открытия клуба в 1908 году отец даже написал фортепьянное произведение «На вхидчины». Жизнь клуба забурлила. Заработали комиссии: литературная, артистическая, лекционная, библиотечная, хозяйственная. Немало потребовалось изобретательности, чтобы без остановки вертелось клубное колесо. Много народу (особенно из студенчества) собирали литературные пятницы. На этих вечерах побывали чуть ли не все киевские поэты, драматурги, прозаики. Приезжая в Киев, заглядывал сюда и Михайло Коцюбинский. Чехов когда-то писал, что все в человеке должно быть прекрасным: и лицо, и мысли, и одежда. Именно таким мне запомнился Коцюбинский. Представьте себе человека среднего роста. В его фигуре, походке, одежде столько простоты, скромнос-ти и в то же время какого-то внутреннего изящества, благородства. Движения его скупы, ни одного лишнего жеста. Взгляд серых, на диво выразительных глаз проникает в самое сердце, согревает душу. Своим тихим голосом он говорил отцу: — Музыка, может, больше, чем книга, влияет на человека, пробуждает в нем благороднейшие чувства, любовь к жизни, добру, свету. Николай Витальевич всегда с благодарностью вспоминал дни, проведенные в домике Коцюбинского, неизменного организатора лысенковских концертов в Чернигове. Он давно знал и любил Михаила Михайловича как писателя и человека. Не раз говорил мне: — В произведениях Коцюбинского столько поэзии, мелодичности, что так и хочется переложить их на музыку. И, возможно, даже собирался осуществить свой замысел, потому что все расспрашивал нашего дорогого гостя о его поездке в Карпаты, о гуцулах, героях чудесной повести «Тени забытых предков», называя ее поэмой в прозе. Привычно поскрипывает маятник, старинные дедовские куранты отбивают час за часом, а Коцюбинский все рассказывает о крае зеленых смерек, о синих Карпатах и бурных горных реках. С теплотой и нежностью говорит о гуцулах — героическом племени Олексы Довбуша. — Вся их жизнь среди прекрасной и суровой природы— борьба! Сколько сказок и песен она породила! Николай Витальевич в свое время бывал в Карпатах, на высоких полонинах, под аккомпанемент трембиты записал немало песен. Взволнованное повествование Коцюбинского разбудило в нем давние воспоминания. Отец редко импровизировал и в этот раз исполнял произведения, написанные им недавно. Не помню, что именно он играл, кажется, песню «Верховино, ти світку наш». Знаю только, что хорошо известные мне произведения зазвучали в тот вечер по-новому. Были в этих звуках скорбный крик трембиты и зеленый шум смерек, тревога Марички о своем любимом, а может, тоска композитора, почувствовавшего в тот вечер, что так и не успеет сказать людям все, что вызрело в его сердце.
* * *
Вместе со своей матерью в дни кратковременных наездов в родной город приходила в клуб Леся Украинка. Леся! Наша Леся! Кажется, совсем недавно прибегала она к нам, выдумывала для лысенковых малят такие игры, от которых ходуном ходил весь дом. Милая соседка, первая царевна наших детских снов и наш первый режиссер! Что сталось с тобой, Леся? Тяжкая болезнь выпила девичий румянец, тревожные думы прорезали глубокими морщинами чистое, благородное чело, только очи пламенели давним, юным огнем. В этом хилом, болезненном теле жил и ежеминутно заявлял о себе могучий дух борца. Как оживала Леся, как менялось в одно мгновение ее лицо, когда кто-то заводил разговор о том, что всегда волновало ее! Помню, после литературного диспута какой-то панок виршеплет стал утверждать, что, дескать, только та поэзия вечна, которая «реет над нами и не грязнит свои одежды в болоте жизни». Леся смерила новоиспеченного защитника «штуки для штуки» («искусства для искусства») с ног до головы и тихо сказала: — А вы, добродию, закажите ходули и витайте себе на здоровячко над «болотом». Может, и не запачкаете свои одежды. Замолк панок, будто воды в рот набрал. В последний раз я видел Лесю на литературном вечере. Собралось много молодежи. Лесю (она сидела рядом с матерью) сразу узнали. — Лариса Петровна, прочитайте нам что-нибудь, — попросил, набравшись храбрости, юноша в студенческой тужурке. — «Досвітні вогнї»! «Досвітні вогнï»! — зарокотал зал. Леся на небольшой эстраде. Молодежь долго аплодирует любимой поэтессе. Она поднимает руку, словно хочет погасить этот порыв искреннего восхищения и преданности. Наступает тишина. Напряженная тишина. Устало и тихо звучит голосp>Ніч темна людей всіх потомлених вкрила…Досвітні вогні, переможні, урочі
Прорізали темряву ночі.
Ще сонячні промені сплять, —
Досвітні вогні вже горять,
То світять їх люди рабочі.
…Вставай, хто живий, в кого думка повстала! Година для праці[43] насталаИ снова гремит, грохочет зал. Под этот гром Леся как-то незаметно выбралась из клуба. Больше мне не пришлось ее видеть. Среди почетных гостей клуба хорошо помню и Днипрову Чайку. Как-то под вечер на пороге нашей гостиной появилась невысокая худенькая женщина с лицом, на котором так и синели большие печальные не глаза — очи. Отец сразу бросился ей навстречу. — Здравствуйте, Людмила Алексеевна![44] Вот и до нас залетела Днипрова Чайка, редкостная птица в старом Киеве! — Чайка, да не та, — грустно улыбнулась гостья. — Обвисли крылья, поседели перья. Не тот уже лет, не та песня, дорогой Николай Витальевич. — Э, нет! Рано Днипровой Чайке из лета выбывать. Долго ей сеять «чесні думи, щирі, молоді». На столе появился самовар. Отец, вспоминая общих знакомых, все расспрашивал о литературной и музыкально-артистической жизни в Херсоне, о творческих планах поэтессы, делился клубными новостями. О Днипровой Чайке, известной в то время писательнице, слыхал я от отца и раньше. Знакомство их состоялось еще в 80-х годах во время ее довольно частых приездов в Киев из села Короливка (ныне Попелянского района), куда она вместе с мужем была выслана из Херсона как «политически неблагонадежная». В нашей библиотеке были почти все произведения Днипровой Чайки. Отец любил ее стихи, проникнутые глубоким уважением к народу, поэтические миниатюры в прозе, новеллы, повести. «И люди невеселые и села невеселые» густо заселили и стихи ее и прозу. — Есть в этой строфе что-то некрасовское, не так ли, Остап? — как-то заметил отец, перечитывая вслух, одно из стихотворений поэтессыp>Думка про хліб розбудилаРано голодне село.
Всяке, що мало ще сили,
Роздобувати пішло,
Де б то чого попоїсти,
Чим пропалити в печі.
Ой, під горою, під кам’яноюТам сидів голуб з голубкою.
Цілувалися, милувалися,Сизими крилами обіймалися.
А біда рядом кружляє,Налетів орел з крутої гори,
Розбив-розлучив голубів з пари.
Голубка ходе, жалібно гуде,Що вже з голубом жити не буде.
Міняється серце од ласки в людині. ПИСЬМА К КОЛЕССЕ
Гость в Китаеве. — Письма-завещание. — О таланте. — «Фольклор — это сама жизнь». — Всем нам дорогое дело
— Не проводишь ли меня, Остап, на пристань? Жду гостя. — Узкой тропинкой спускаемся к Днепру. «Парубок», устало пыхтя и посапывая, приближается к пристани. Пассажиры, преимущественно дачники, чинно сходят на китаевский берег. Ни одного знакомого лица. Где же гость? Отец тоже встревожен. — Николай Витальевич! Дорогой учитель! — слышу охрипший от волнения голос. — Не меня ли встречаете? Молодой человек лет тридцати. Выпуклый лоб, открытое лицо. Так вот какой Филарет Колесса из Львова! Вот кого с таким нетерпением ждал отец все последние дни! — Наконец выбрался. Еду на вашу Полтавщину. Думка у меня такая — с кобзарями походить, кое-что записать, хоть после вас вряд ли на полтавском фольклорном поле остались неубранные колоски. — Еще найдутся колоски и для ваших внуков, — смеется отец. — А пока развяжите свою дорожную торбу да высыпите нам все львовские новости. — Новостей много, кланяется вам пол-Львова, особо — Иван Яковлевич. Просил передать свое сердечное спасибо за «Гимн»[47]. Несколько дней провел Колесса в Китаеве. Отец даже изменил своей привычке: по утрам в лес отправлялся не один, а с нашим гостем. Возвращались к обеду. А вечером, за чаем, снова вспыхивал огонек беседы. И если бы не сестра моя, строгий страж-исполнитель медицинских предписаний отцу, огонек этот горел бы до утра. Дело давнее, но отлично помню главную тему разговора, бог весть когда начатого Миколой Лысенко и Филаретом Колессой! Исторические корни, приемы собирания и гармонизации песни по эту и по ту сторону Збруча. Филарет Колесса часто ссылался на какие-то письма отца. — Я очень хотел бы опубликовать их полностью. Конечно, с вашего разрешения, Николай Витальевич, — говорил он в день отъезда. Отец не противился, только заметил, что спешить нечего — лучше это сделать после. От пристани мы с отцом возвращались в сумерках. Я стал расспрашивать, какие это письма собирается печатать Колесса. — Письма? — задумчиво переспросил отец. — Да это, если хочешь, не письма, а мое завещание. …Много лет спустя, в советском Львове я снова встретился с Филаретом Колессой, уже академиком, известным исследователем музыкального фольклора Украины. Бережно разглаживая листки, исписанные знакомым мелким бисером, Филарет Михайлович показывал мне свой, как он говорил, золотой фонд — письма Миколы Лысенко. Содержание их к тому времени было мне уже частично известно по отрывкам, которые время от времени появлялись в различных журналах. Но только в кабинете Колессы я понял, как прав был отец, называя эти письма своим завещанием. Нигде так полно не отразились его раздумья, поиски, его глубокое понимание истоков, значения народной песни и забота о молодых собирателях и сеятелях ее. — Кто знает, как сложилась бы моя жизнь, если бы не эти письма, — говорил мне Колесса. Началось с того, что в начале 1896 года Колесса, тогда только начинающий этнограф, послал свои первые творческие опыты Лысенко. Молодой исследователь не уверен, хватит ли ему таланта, знаний, по плечу ли ноша. Николай Витальевич откликнулся пространным посланием: «Очень рад был, получив Ваше письмо, которое давно уже ожидал. Я всегда рад бываю, когда кто-нибудь из молодых интересуется, работает на родной ниве и когда, не уповая сразу на свои слабые силы, обращается за советом к людям, искушенным практикой. С радостью я с такими людьми делюсь всем, с радостью поясняю им свои собственные ошибки, которые обычно делал на своем пути. Истина прежде всего! Я и сам очень не одобряю, когда мне льстят, ибо в строгой, временами и острой критике своих ошибок нахожу единственный и исключительный путь и критерий к усовершенствованию. Не свое собственное «я» мне дорого в моих работах, ибо я, образованный человек и проникнутый глубоко идеей добра к моей отчизне, делаю и работаю на пользу ей. Под этим знаменем только и нужно ходить и делать. После такого разговора с Вами я решаюсь приступить к оценке Ваших присланных произведений. Повторяю, что буду руководиться искренней и непоколебимой правдой, насколько я понимаю и знаю это дело. Прежде всего отвечаю Вам на очень интересующий Вас вопрос, который Вы так нервно поставили мне как важнейший: «Есть ли у Вас хоть минимум того, что называется талантом?» Видите ли, для всех и всюду этот вопрос настолько растяжимый, что представляется большая трудность ответить на него. Что вообще такое талант? Какие у него границы, объемы? Понятие это охватывает много мелких и специальных признаков, ступеней: способность, одаренность, музыкальность, талантливость и сверх всего, как генеральное, общее понятие, — талант. И я и Вы — люди, имеющие способности к созданию музыкальной работы, один легкой, другой более тяжелой, ибо один имел очень мало знаний и практики, второй имел возможность и учиться, и слушать, и упражняться. Большие самостоятельные произведения требуют большой эрудиции, а также и творческого духа, без которого уже не обойтись. Называем это делом таланта. Но вот благодаря таланту я написал нечто, а оно, в конце концов, и не поднимается над посредственностью. Ну, какой же мой талант? А между тем там, в том произведении, есть и знания, и наука, и мастерство и даже хорошо звучит, красиво, но — не проникает в человеческое сердце, не захватывает массы. Истинных талантов в мире очень немного, которыми живет большая масса людей, которые покоряют ее, ведут за собой. Мы же себе, не гоняясь за привлекательным «именем», будем на совесть делать свою маленькую работу, всякий по своим возможностям, и оглядываться всякий раз на развитие искусства, не закрывать себе глаза, а учиться, слушать, читать». В присланных Колессой работах наметанный глаз старого композитора заметил следы немецкой школы. Сказывалось характерное для многих галицийских композиторов влияние чешско-австрийской музыки. «Но, — едко замечает Микола Лысенко, — «что пристало быку, то не пристало Юпитеру», что пристало западноевропейской мелодии, то не соответствует славянской, в частности украинской, мелодии». Сурово осуждая попытки втиснуть славянскую песню в чуждые ей западноевропейские гармонические формы, он продолжает: «…Вы, да и я до недавнего времени, руководствуетесь этим в полной мере. Ergo! Путь целиком неправильный, неприродный, нужно его оставить. Оставив же, необходимо что-то взамен иметь. Для этого нужно поучиться, перечитать такое прекрасное произведение покойного Петра Сокальского, как его исследование русской народной песни. Труд очень специальный, основанный на глубоко научных принципах. Его нужно изучить. Кроме этого, нужно было бы перечитать сборник русских народных песен Мельгунова с трактатом о народных песнях и с гармонизацией самих песен, тоже Ляро-ша, Фаминцына. Много говорят о недавнем сборнике Пальчикова, который собрал где-то в Вятской или Казанской губернии народные песни и пропевал при главной мелодии все подголоски, как поет народ. Так же сборники Балакирева, Чайковского, Р.-Корсакова…» Верный своему правилу «истина прежде всего», Лысенко критикует «вязанку песен» «Улица», но тут же заклинает Колессу: «Ради бога, не подумайте, что я острым суждением Вашей работы отклоняю Вас навсегда от любимой деятельности. Я хочу предостеречь Вас от того, чем сам очень болел и отчего стараюсь выздороветь. Лучше же, если со стороны попадается человек, который не от злого сердца, а с лучшими намерениями указывает земляку ошибки, которые у каждого из нас были, а может и теперь есть, и от которых чем скорее освободишься, тем делу скорей дашь правильный ход. Конечно, делюсь с Вами своими мыслями, как с близким человеком, который хотел выслушать слово братского совета. Поэтому, если мое слово имеет силу для Вас, вы в работах такого рода должны сказать «довольно». На мой взгляд, эти работы не нужны ни для Вас, ни для того дела, какому Вы служите, так как опираются на неверную, фальшивую основу… Наш же украинский народ, если и начинает переживать фазу упадка лирического творчества, все же не потерял своей физиономии, и отклонять его в руки чужой, да и к тому же более узкой культуры, нет ни малейшего смысла. Европа сказала уже миру в произведениях великих своих гениев, для нас же еще разве только настает время появляться среди людей. Наша песня в широком европейском свете очень молода, свежа, нова — ей принадлежит будущее. От нас — сыновей этой молодой народности зависит поставить ее на путь развития в справедливом, ей принадлежащем природном освещении». За спокойной интонацией нельзя не услышать бушующее негодование и призыв старого бойца: творить… Да! Но не для салонной публики, а для народа. «Я думаю, что Ваша русинская (галицкая. — О. Л.) вообще, и львовская, публика более склонна слушать салонную композицию, чем народные песни. Ее к этому приучили свои же «патриоты». Отучите же ее общими силами и научите любоваться истинно народным добром — песней в природной ее одежде. Когда Вы сами себя переделаете в этом смысле и публику приучите к народности и в слове и в музыке, тогда творите сколько хотите и на какой хотите сюжет: не страшно за будущее. А пока что остановитесь, учитесь на серой свитке, на грубой сорочке, на дегтя-ных сапогах, ибо там душа божья сидит. Извините за острые слова! Я дело говорил, ибо ему весь век свой посвятил». Первое письмо Колессе начато 22 апреля 1896 года, а закончено 17 мая. Почти месяц вынашиваются, шлифуются сокровеннейшие мысли, итог многолетних исканий и наблюдений. А ведь письмо не предназначалось для печати и адресовано одному человеку, мало известному тогда этнографу! Тут есть над чем задуматься. И надо ли удивляться, что Филарет Колесса, как, впрочем, и Леонтович, Стеценко, композиторы весьма различные по почерку и дарованию, считали себя учениками Лысенковой школы, конечно, не в узком смысле слова. Уже закончив первое письмо Колессе, Николай Витальевич в тот же день (17 мая) снова берется за перо, чтобы дописать «несколько строк». Но Post scriptum растянулся на несколько страниц. Его появление объяснить не трудно. Что нужно композитору, этнографу? Талант, понимание души, характера народной песни, о чем и говорилось в письме. Но разве этого достаточно? «Не бросайтесь в отчаяние, не бойтесь дилетантизма, когда не из чего было еще появиться артистизму, Нужна школа, да еще хорошая школа, а после нее хороший, внимательный нелегкий опыт, пока через тернистый путь неудач, горьких разочарований, пустых порывов может получиться что-то путное». Труд — упорный, кропотливый. Но и этого мало. «Боже, боже! Какая великая потребность для музыканта, а вместе и народника, походить между селянским людом, узнать его мировоззрение, записать его пересказы, воспоминания, пословицы, песни. Вся эта сфера, как воздух, необходима человеку; без нее грешно начинать свою работу и музыканту и филологу. Фольклор — это сама жизнь. Я, бывши студентом университета, каждое лето, когда мне случалось ездить в деревню, с любовью отдавался этой работе. Поэтому я, между прочим, и проникся духом народной песни; она меня сроднила с народом, меня, случайно оторванного от своего «наименьшего брата» силой сословной обособленности и цивилизации… Мой совет: делайте, если имеете охоту, как я делал. Я сначала, студентом бывши, собирал песни, материалы от народа каждое божье лето, сводил их, систематизировал, гармонизировал, а в дальнейшем начал писать. Пробовал Шевченко, писал маленькую музыку к украинским композициям. Пусть народ Вас ведет сначала за собой, а далее вы уже, как вырастете из школы, сами начнете самостоятельно работать…» И тут же, в «приписке», раздумья о социальных, классовых истоках народной песни, характера ее исполнения. «Чувствую я, к великому и тяжкому моему сожалению, что у Вас в Галиции нет массового пения, что оно давно умерло, исчезло. Массовое пение существует, развивается там, где жилось свободно, где сам народ жил по своей воле, сам и правил и распоряжался у себя (козацкий строй выборный). Запорожье — на Украине; в Московской державе тоже беглецы-козаки и, особенно, разбои — ушкуйники. А бедная Галиция ныла в неволе польской. Вольно было мугикать разве одному себе под нос, а массовому пению не вольно было разноситься по степям, лугам, гаям. Нет массы, нет и подголосков к основному мотиву, нет и зарождения гармонии, контрапункта». Отправив письмо, Лысенко уже не выпускает из поля зрения своего корреспондента. С какой неподдельной радостью пишет он Колессе два года спустя, познакомившись с новым его произведением «Обжинки»! «Я должен засвидетельствовать Вам мое искреннее и сердечное признание, что Вы, очевидно, из первых между галичанами взялись за такое благое дело, как собирание народных сокровищ — песен и их обработку. Откуда же нам черпать то вдохновение, ту свежесть, тот здоровый и ароматный материал, каким бы мы могли как младенческая еще нация показать себя и отметить свое появление на европейской арене. Там те, уже старые, народности сказали, что имели и знали, они не удивят ничем. Нужно ж нам, еще детского века народности, вооруженной свежим, оригинальным материалом народным, появляться понемногу со своими дарами… Выбор Ваш обрядового материала («Обжинки» — этнографическая картинка в народных песнях для смешанного хора. — О. Л.) заслуживает полного признания. Вы поработали старательно и успешно». И опять идут письма… Композитора радуют широкие планы и мероприятия по организации певческих обществ в Галиции[48] — «важный показатель общественной зрелости, сознания своего национального достоинства». «Очень утешила» и весть об издании музыкального журнала в Галиции. Композитор согласен сотрудничать в нем, «желает большого успеха… молодым, честным и очень симпатичным заботам около молодого и всем нам дорогого дела» — хочет увидеть, «как оно там нарождается». Эти строки писались почти 60 лет назад. С тех пор удивительная история произошла с письмами Колессе. Адресованные одному человеку, они с каждым поколением прочно обрастают все новыми и новыми читателями. Эти письма не только страница истории украинской музыкальной культуры. И по сей день не устарел голос композитора. Так же молодо, призывно звучит его завет, вдохновляя, ободряя одних и серьезно предостерегая каждого, кто из-за незнания или высокомерия пытается творить, оторвавшись «от народной основыh3> «ТАРАС БУЛЬБА»

На «дубах» с археологической экспедицией. — Лоцман Мусий. — На Сечи. — В Екатеринославском музее. — «Важко нести — важко й покидати». — «Тарас Бульба». — Новая жизнь старого Тараса
1910 год. Здоровье отца ухудшается… Позвал он меня однажды к себе и, стараясь перевести разговор в шутку, сказал: — Все мы невечные, Остап. Да уже пора мне, как говорил наш Тарас, «риштувати вози в далеку дорогу». Хочу, чтобы и ты помог мне. Собираясь в «дальнюю дорогу», Николай Витальевич прежде всего позаботился, чтобы самое его «любимое дитя» наконец-то увидело свет, и занялся корректурой клавира оперы «Тарас Бульба». На мою долю досталась сверка текстов — украинского и русского. Клавир правил отец. …Много вечеров провели мы вместе в уютном, располагающем к труду кабинете. Корректируя клавир, отец будто наново переживал рождение, первые шаги «любимого дитяти». Не раз отрывался от работы, вспоминая то один эпизод, то другой. 1874 год. Неожиданный успех «Рождественской ночи». Мечты о настоящей народно-героической опере. Две темы, два образа заполонили воображение и сердце композитора: Маруся Богуславка и Тарас Бульба. В Мариинском театре студент Петербургской консерватории Микола Лысенко слушает «Ивана Сусанина». Рассвет. Спят польские драгуны в дремучем лесу. Это старый Сусанин завел в топь, на погибель врагов-супостатов. И его тоже ждет здесь смерть. «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу?!» В прощальной арии Сусанина чудится Миколе могучий голос: «Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы боялся козак?» По словам отца, решение написать оперу по повести Гоголя окончательно вызрело в 1878 году, когда он с археологической экспедицией[49] побывал на Хортице, бывшей Запорожской Сечи. До Екатеринослава (Днепропетровск) спустились пароходом, а там через Лоцманскую Каменку и пороги уже на «дубах» добрались к Хортице. — Славно побурлаковали мы по Днепру, — вспоминал отец. — Правда, могли мы на этих «дубах» и дуба дать. Дух захватывало, когда переправлялись через Ненасытец. Запорожцы порог тот «Дедом» прозвали. Не одна разбитая в щепки лодка, не одна буйная голова нашла себе тут могилу. Обходили мы «Деда» каналом. Полторы версты летели стрелой. Днепр пенится, ревет, как неистовый зверь. Волны прыгают белыми козликами над бурунами, наш «дуб» среди них словно пастух. То вынырнет из волн, то снова проваливается в бездну. Вот уже и нос нырнул в воду, только чердак[50] сверху. Трещит, стонет «дуб». Волны лютуют вокруг, обливают нас. И весело, и боязно, и как-то чудно на душе. Надо было в эти минуты видеть нашего лоцмана Мусия Бойко. Стоит как вкопанный на носу «дуба», Высокий, плечи косая сажень, в белой сорочке. Мускулистое, словно кованное из бронзы лицо. Усы длинные, побуревшие от крепчайшего самосада. Волны осатанело, с диким ревом бросаются на нас, а он хоть бы усом пошевелил, хоть бы бровью повел. Только глаза, прикованные к бездне, вскипающей кипятком, выдают его напряжение и тревогу. Одно неверное движение рулем — и всей бы нашей ученой компании раков кормить. Поверишь, Остап, гляну на Мусия и вижу его отца, деда и прадеда. На таких же «дубах» при Святославе и при Богдане шли через пороги. За землю русскую бились на смерть с врагами. Не выпуская меча из рук, сеяли жито, строили крепости, города, села Мусии и Иваны, Максимы и Остапы. Мучили их в рабстве тяжком татары, паны-ляхи распинали на крестах, «свое» православное панство душило крепаччиной, травило псами. А Мусий — вот он! На «дубе» своем— сам дуб. Всеми бурями обвеянный, солнцем и морозом прокаленный, днепровой водой напоенный, весенними грозами омытый. Живой, непокоренный рыцарь с руками богатыря и с чистой душой ребенка! Татар пережил, ляхов пережил и панство переживет. Ибо — сила! Ибо — народ! …Экспедиция прошла еще три-четыре порога. Между ними — Волнянский, по свирепости — родной брат Ненасытца. Наконец — Хортица. Жили всей экспедицией на острове у немца-колониста. Подолгу рылись в старых могилах. С глубоким волнением вступил отец на древнюю, густо политую казачьей кровью землю. Рассказывал он об этом так, будто не тридцать два года тому, а только что возвратился из экспедиции. — Так и вижу, Остап, старое селение, древнюю Сечь. Стоят там развалины, обкопанные валом. Местами еще чернеют крепости земляные, а где стояли когда-то курени, где жило товариство славное, рыцарское, одни ямы остались да тирса шумит; молочаем, травой бесплодной, чаполочью все поросло. Замолчит отец, задумается. В его глазах видится мне отблеск тех дальних дней. И вот уже снова слышен его хрипловатый голос: — Зайду, бывало, в безлюдный яр. Днепр вдали виднеется. Груши-дички пораскиданы то тут, то там. А надо мною в бездонном небе степной орел парит, кружится. Лежу на высохшей траве, и кажется мне: вот-вот из-за горы появится козак на коне в красном жупане, в шароварах шириною с Черное море. При нем и мушкет и сабля острая. Ждешь его и песней зовешь — не идет. Мертвое безмолвие вокруг, а сердце полнится звуками: слышатся мне голоса могучие и призывы победные, шумит, волнуется козацкое море. Так родилась музыкальная сцена Сечи Запорожской. Она потом вошла в оперу. Вспомнилась и более поздняя поездка в Екатеринослав, в которой и я участвовал. Было это в 1902 году. Прибыли мы с хором в город, и отец сразу навестил Эварницкого, тогда директора Музея запорожской старины имени Поля. Весь день провели мы в музее. — Вы даже не представляете себе, земляче, — говорил отец Эварницкому, — как помогла мне та поездка давняя на Хортицу. Картины Сечи, сборов козачьих, выборы кошевого — да разве я написал бы их, не увидев своими глазами останки славной минувшины, если бы не упился суровой природой старой Сечи! Отец интересовался разными деталями быта запорожцев и буквально засыпал Эварницкого вопросами. Вспомнил, к слову, как в поисках деталей, настроения ездил в Дубно. — То большое, скажу вам, дело, когда композитору удается побывать в тех местах, где когда-то жили или живут его герои. Польские картины в опере почти все навеяны тем, что я увидел, прочувствовал в Дубно. Долгие часы простаивал Николай Витальевич у старого замка дубненского воеводы. Тут Андрей, околдованный красой дочери воеводы Марыльцы, забыл и отца, и мать, и товарищей, и отчизну. Смотрел композитор на огромный средневековый замок с четырьмя башнями, на поле, редкий лесок и видел замок этот в облоге казацкой, когда изголодавшееся панство молилось в каплице за погибель «схизматов»'. Видел он и шляхтичей на высоких стенах, слышал их проклятия, перебранку с казаками. Может, тут, в леску, встретился в последний раз Андрей со своим отцом? И уже вырисовывается, все зримей становится эта трагическая встречаp>Так продавати, зраджувать своїх,
Ганьбити честь, ламать присягу, віру!
Не ворушись! Я породив такого, я й уб’ю!..
ТАРАС БУЛЬБА
Опера в 5 действиях и 7 картинах Либретто по Гоголю скомпанувал М. Старицкий Карповка 18/ХІ 80 г. …Древний Киев. Площадь перед Братским монастырем. Говорливые перекупки, голодные, неунывающие бурсаки, сельский и цеховой люд. Кобзарь поет о подвигах дедов, боровшихся против турок, против «черной хмары, что над Украиной стала». Ремесленники, казаки обступили певца. Тут Остап, Андрей. Все стремительней перебирают пальцы струны бандурыЗапасем же, товарищи[51],Острого в халяву.
Нужно будет защищать нам
Свою волю и славу.
Ох, дети мои,Цветочки!
Ох, посоветуйте, люди добрые!
Отбирают, спасайте!
Вот жизнь прошла, а счастья и не знала…Сама, всегда сама сиди, тоскуй,
Растрачивай лета в тревоге,
А милый пьет кровавое вино!..
Дерут и пан и хищнник злойНашу Украину.
Зато брат за брата
Рад душу положить.
Сцена из постановки оперы «Тарас Бульба» (II акт) на сцене Киевского театра оперы и балета имени Т. Шевченко. Сцена из постановки оперы «Энеида» (I акт) на сцене Киевского театра оперы и балета имени Т. Шевченко.
Сцена из постановки оперы «Энеида» (I акт) на сцене Киевского театра оперы и балета имени Т. Шевченко.
 Андрей Витальевич Лысенко, брат композитора.
Андрей Витальевич Лысенко, брат композитора.
Помню, наше совместное редактирование уже близилось к концу, а отец снова принялся было сокращать, перекраивать клавир. Но потом решил: — Не стоит — мне вряд ли удастся увидеть оперу на сцене, а когда дойдет до постановки, купюры все равно будут сделаны. Как бы там ни было — жить нашему Бульбе! Старый еще себя покажет! Впрочем, — продолжал он, — однажды мне уже пришлось сокращать «Бульбу», да так, что и теперь болит, будто по живому резал. У Гоголя, как из песни, и слово не выкинешь, не то что эпизод. Вот и перенесли мы в оперу с Михаилом Старицким чуть ли не всю повесть. А ведь у оперы свои законы, свое прокрустово ложе. Пришлось сокращать… Выкинули мы из второго действия песни и танцы челяди на хуторе Тараса, хор в честь урожая. Без них можно обойтись. Довелось из-за большого объема второго действия отказаться в сцене встречи Тараса с сыновьями от кулачного боя старого Бульбы с Остапом, хотя это одна из самых ярких гоголевских страниц. А вспомню сцену приезда Тараса с сыновьями на Сечь (и ее пришлось вычеркнуть) — поверишь, места себе не нахожу. Надумал я эту сцену на Хортице. Волны седого Славутича напели ее мне. Да что поделаешь. Не все вмещается в оперный сюжет. Сцена, которую вспоминал отец, не вошла в окончательную редакцию. Она настолько исполнена характерными для всей оперы героико-романтическими чертами, настолько колоритно и правдиво воплощает быт сечевиков, что хочется дать о ней читателю более полное представление. …Берег Днепра. Медленно плывет паром на остров Хортицу — Сечь. Начинается сцена инструментальным вступлением: грозно бьются волны широкого бурного Днепра, шумят, бунтуют, переливаясь через скалистые пороги. Льется широкая песня, то возвышенно-героическая, то скорбно-грустная: песня рассказывает о борьбе сечевых рыцарей, о славном прошлом Сечи. Тарас с сыновьями приезжает на берег Днепра. Тут же корчма. Пенится в ковшах мед, рекой льется горилка. Пируют казаки. Из-за Днепра слышен голос запорожца, перекликающегося с паромщиком. Сцена сопровождается музыкальной темой шумных, игривых волн. Тарас у переправы с радостным волнением предлагает всем снять шапки, приветствовать мать свою — Сечь, откуда, «как могучие львы, на весь свет ринут казаки», откуда «играет потоком и воля и казачество на Украину всю». Все спешились с коней, осторожно обходят богатыря-запорожца. Он спит на самой середине дороги, живописно раскинувшись. Тарас любуется фигурой казака, что «так важно развернулся». «Хоть рисуй», — говорит он. В глубоком раздумье стоит Тарас на берегу и, озирая все вокруг, вспоминает свои молодые годы. «В жилах у него вновь играет кровь!» Растроганный воспоминаниями, он обращается к «Лугу-Батьку» и «Сечи-Матери» с просьбой «принять снова его, старого, до хаты», научить сынов его, как за Украину встать, как «ее больше жизни любить». Приближается время отплытия на ту сторону Днепра, на Сечь. Запорожцы выходят из корчмы. Шинкарь провожает их, желает счастливой переправы. Все идут к парому. Тарас в последний раз торжественно призывает сыновей приготовиться к вступлению на «сечовую землю»: «Орлами себя покажите, завоюйте себе славу!». «Добудем себе, батьку, славы на поле боя, или погибнем со славой», — отвечают братья. Взволнованный ответом сыновей, Тарас видит их в мечте среди лучших сечовых рыцарей, чтоб «стоять умели твердо за мать свою Украину». Завершается сцена отплытием парома с Тарасом и казаками на Сечь. И снова шумит, бурлит неугомонный Днепр, снова льется дума-песня о славных героях Запорожской Сечи. …Плывут-уплывают годы. Давно пожелтели нотные листки, где рукой отца набросаны многочисленные эскизы к «Тарасу Бульбе», а сама опера живет, переживает свою вторую, куда более счастливую молодость… Для народа создал свою оперу Микола Лысенко, и народ увидел ее. В 1927 году в Харькове была впервые осуществлена постановка «Тараса Бульбы». Рабочий Харьков тепло приветствовал «Тараса». С 1937 года «Тарас Бульба» — одна из ведущих постановок Киевского театра имени Т. Г. Шевченко. Гаснет свет… Затихает партер. Рождается, крепнет могучая мелодия. И кажется, рядом со мною отец. Слышу его безмерно родной голос: — Разве не говорил я, Остап, что будет жить старый Бульба? Вот и на нашей улице праздникh3> ОПЕРА-САТИРА

Инсценировка поэмы «Энеида». — Опера на сцене драматического театра. — Театр Садовского в Киеве. — Олимпийские боги или… царь Микола. — «Энеида» и «Золотой петушок».
Однажды (если не ошибаюсь, в конце 1909 года) зашла в кабинете отца речь об «Энеиде». Вспомнили 1903 год — юбилей Котляревского. — Давно об этом мечтаю, — неожиданно заговорил Николай Карпович Садовский. До этого он все молчал, сосредоточенно попыхивая в люльку. — Давно хочу Энея, парубка моторного, Дидону, Юпитера и всю его божественную братию вывести на сцену. И тут же признался, что, чего греха таить, уже работает над сценическим вариантом «перелицованной» «Энеиды» Котляревского. Отец горячо поддержал Садовского. — «Энеида» просто создана для театра. Странно, что до сих пор никто из наших драматургов не заинтересовался ею. Театр Садовского, как и театры Старицкого, Кропивницкого, Саксаганского и Заньковецкой, можно назвать и театром Лысенко. Без его музыки не обходилась, пожалуй, ни одна новая постановка. Оперный театр был в те времена закрыт для украинского композитора. И все же не только «Наталка-Полтавка», в основе своей произведение драматическое, но и оперетта Лысенко «Черноморцы», его же оперы «Рождественская ночь», «Утопленница» успешно ставились на украинской сцене. Объяснялось это просто. Украинские драматические театры, на диво певучие и музыкальные, счастливо соединяли элементы драмы и оперетты, оперы и балета. Корифеи украинской сцены все (кто в большей, кто в меньшей мере) владели голосом, хорошо разбирались в музыке, в народных мелодиях. Николая Карповича, как, впрочем, и всех братьев Тобилевичей[53], природа тоже щедро наделила слухом, голосом (баритон) и творческим даром. «По своему образу и подобию» подбирал себе Николай Карпович и актеров. Он организовал отборный смешанный хор, небольшой по составу, но довольно квалифицированный оркестр. Дела театра окончательно наладились, когда труппа Садовского после бесконечных скитаний, наконец, «осела» в Киеве, где стала постоянно выступать в помещении театра «Общества грамотности», известного в народе как «Театр Садовского». Народный, реалистический театр, на сцене которого с огромным успехом шли острые социальные драмы и комедии прославленного брата М. Садовского — И. Карпенко-Карого, пьесы Островского и Гоголя, быстро «оброс» своим зрителем. Зритель этот — рабочие, рядовая разночинная интеллигенция, ученики, студенты — весь демократический Киев! Кто видел Садовского на сцене, тому уже не забыть мужественное лицо, голос, решительные карие глаза, пышные, чуть наёженные усы «січовика». Среди братьев Тобилевичей Николай Карпович выделялся богатырским ростом, здоровьем, военной выправкой и… солдатским «георгием» на неизменном во всех торжественных случаях (особенно когда надо было являться перед ясные очи начальства) черном сюртуке. Своим солдатским «георгием» Садовский гордился по праву. — Не какой-нибудь, а солдатский крест, в бою заработан! — Было это под Шипкой, — обычно начинал Николай Карпович. — Хоть из «вольноопределяющихся», но солдат (не дело себя хвалить, а скажу!) вышел из меня стоящий. В бою из рук здоровенного турка полковое знамя вырвал. Что тут было! Отовсюду кинулись на меня турки. Пошла стрельба! Не знаю, не ведаю, как к своим добрался. А знамя донес! Так и стал георгиевским кавалером. Николай Карпович лукаво, но и не без гордости посматривал на нас, подкручивая свой «гетьманский» ус. После разговора об «Энеиде» прошло несколько месяцев. На премьере драмы Карпенко-Карого «Сава Чалый» (отец большой патриот театра Садовского, ни одной премьеры не пропускал) заглянули мы в директорский кабинет. — Чем обрадуете нас, дорогой Николай Карпович? — спросил, здороваясь, отец. — Премьера премьерой, а пора и «Энеиде» выбраться на свет божий, сиречь на сцену. — Да, нечего сказать! А я-то думал, пришли с поздравлением к «новорожденному»: вчера инсценировку дописал! Договорились, что в ближайшие дни Николай Карпович заедет к нам с «новорожденным». На читку отец пригласил Ольгу Петровну Косач и кое-кого из знакомых театроведов. Снова, как когда-то, в дни нашей поездки в Полтаву, ожили перед нами боги Олимпа со своими ссорами, пьянством, бесстыдным развратом. Сыпал громами разгневанный Юпитер, льстивая Юнона что-то нашептывала сластолюбцу Эолу, между делом бранясь с Венерой не хуже заправской торговки-перекупки с Житного базара. Такое чтение не часто услышишь! Николай Карпович не читал, а воссоздавал и голосом, и жестами, и мимикой олимпийцев, ад, Энея… Сознавая, что на сцене невозможно раскрыть содержание всех шести частей «Энеиды», Садовский для сценической переработки взял только отдельные эпизоды: прибытие Энея с троянцами в Карфаген, после гибели Трои, любовь Энея и Дидоны, вмешательство олимпийских богов в судьбу Энея, его отъезд в Латину и трагическую смерть карфагенской царицы. Внимательно слушал отец Николая Карповича, что-то серьезно обдумывая. В такие минуты глаза, лоб, сведенный морщинами, чуть выдвинутая вперед фигура, наконец пальцы, бегающие по столу, словно по клавишам, — все выдавало в нем непрерывную работу мысли. Я хорошо знал и любил в нем эти минуты. — Ну как? — спросил Николай Карпович, свертывая рукопись. — А вот как! Слушал я вас, друже мой, и запала мне одна думка. А что, если богов с Олимпа да в оперу? Ваша инсценировка почти готовое либретто. Какой тут драматический, острый конфликт и, главное, сатира, донимающая, убийственная сатира на криводержавие. Зевс с компанией — это же наш Микола со всей дворцовой камарильей, и все это в национальном украинском колорите. — Волнуясь и все более воодушевляясь, отец продолжал: — Переделайте всю инсценировку, дорогой Николай Карпович, на оперное либретто. Если понадобится, мы все вам поможем, и будет у нас своя, первая на Украине комическая опера-сатира. У меня при вашем чтении даже отдельные сцены возникли. Присутствующие поддержали отца. А там «сдался» и Николай Карпович. — В ваших руках опера на материале моей инсценировки получится, чувствую, лучше комедии. А что впервые придется либретто писать, то «не святые горшки лепят». Здесь же всем товариществом набросали план либретто. Николай Карпович горячился больше всех. Отец, помню, рассмеялся: — Теперь не оторвать Николая Карповича от либретто. Видите, как развоевался. Что сотник на раде козачьей. Минул месяц. И снова в гостиной собрались патриоты будущей оперы. Пришли ведущие актеры театра. На этот раз, кажется, уже не Садовский, а кто-то другой читал либретто. Оказалось, отдельные сценки не отвечают оперной специфике, а тексты некоторых арий и хоров трудно положить на музыку. — За один раз не срубишь дерево враз, — подбадривал Садовского-либреттиста отец. — Ничего не поделаешь. Такая у нас, людей искусства, судьба: править, сокращать, переделывать… «Доводил» либретто до «пуття» Николай Карпович уже не в одиночку, а с отцом. Начав с «Андриашиады», подражательной сатиры на русификаторов, Николай Витальевич завершил свой творческий путь убийственной сатирой на царей и вельмож, на панков, сдиравших семь шкур с единокровных селян. Уже приступив к работе, отец не раз говорил Николаю Карповичу Садовскому: — Главное — сцена на Олимпе. Любовь Дидоны, признаться, меня куда меньше волнует. А на Олимпе есть где размахнуться, есть кого ударить. Замечание это не случайное. Либреттист явно отдавал предпочтение роману Энея и Дидоны, красочным бытовым сценам «грекозапорожской» жизни, вывернутой наизнанку», а композитора привлекала возможность воссоздать в комедийно-сатирическом плане зловещие фигуры царя и его придворных в виде мифологических персонажей, сохранив при этом весь национальный колорит, так ярко подчеркнутый у Котляревского. Привлекала отца и героическая фигура Энея, вступившего в поединок со «злой судьбой», с роком, накликанным на его голову богами. Смело, как когда-то казаки-запорожцы, Эней переплывает «на човнах» морские просторы — «вперед, к неведомым берегам»; и в Дидоне все чаще вырисовывался перед отцом задушевный образ украинской женщины. — Давно уже так не работалось, — говорил мне отец. Он, бывало, наигрывал и напевал арии, а когда приходил Садовский, разыгрывались целые сцены. Николаю Карповичу очень понравилась ария Зевсаp>Я — рекс! Вчувайте і вклоняйтесь,
І розумійте слово — рекс!
Грішіть, та тільки оглядайтесь,
Бо ви моє покірне греке!
Над усіма людьми й богами
Панує влада скрізь моя,
І блискавками і громами
Трушу склепіння неба я.
Я все створив, всьому дав міру,
Уклав закони світові.
Людям натхнув і страх, і віру,
I став державцем над людьми!
На світі скрізь панує лад:Один вперед, другий — назад.
На світі скрізь панує рай:
Один працюй, другий — співай.
Скрізь рівність в правді світовій:
Той сльози лий, той нектар пий.
І хвалить все себе само,
Один пануй, другий — в ярмо.
Чим живі ви? Чим все живе на світі,
Й та дрібна людська комашня?[54]Тим, що за вас не мед і оковиту,—
А нектар п’ю отут щодня.
П’ю за народ, за всіх підданців,
Панів, князів і голодранців.
Співаю Зевсові я славу —Олімпа пишному царю,
Його премудрую державу
Співаю, славлю і хвалю!
Він п’є від ночі і до світа
За здравіє своїх дітей.
Вітер свище,Вітер грає,
Хвиля[55] піниться хистка.Море сине і безкрає,
Привітай — но козака.
Се — рекс! Се рекс!І сіріч пан і батько!
Народ коха, як лис курчатко.
Амінь!.. Уви… Єй-єй… Єй-єй!
«КОГДА ПРЕКРАСНА И СМЕРТЬ…»
Вот у нас на Полтавщине… — Галицкое, Жовнин, Гриньки. — В гостях у молодости. — Дед Созонт из Гриньков. — У Коцюбинского. — Письмо из Капри. — По Лысенковым местам
Ежегодно собирался Николай Витальевич в родные места. Вместе с Михайлом Старицким детально обсуждал планы поездки. Бывало, сойдутся старые друзья, только и слышишь: Гриньки, Жовнин, Клищинцы — степь родная и милая. Или: «Вот летом соберемся всем родом и — на Полтавщину». От одних только разговоров молодел отец, будто не в мечтах, а наяву дохнуло на него степным раздольем, будто и в самом деле умылся кристальночистой водою родной Сулы. Но… приходило лето, и зимние мечты таяли, как снег по весне. Снова, в который раз, выезжали мы всей семьей не на Полтавщину, а в Китаев. Хорошо тут было отцу. Славно работалось ему в старом лесу. А все лее он частенько говорил в редкие часы совместных прогулок: — Куда ни глянешь — все лес. Забудешь, как та земля пахнет. Не выбраться ли нам, Остап, в поле? И мы выходили с ним за село, так что уже и Киев лежал перед нами как на ладони. — Не то. Не то, — вздыхал отец. — Куда этому полю до настоящей степи! И дух не тот, и небо не такое, и раздолье не то… Вот у нас на Полтавщине… Так из лета в лето грезил он поездкой в родные места. И только в 1911 году, незадолго до смерти, сбылась его давняя мечта. И на этот раз выехали мы, как всегда, в Китаев, но все лето прошло в разговорах и сборах на Полтавщину. — Больше тянуть нельзя, — говорил Николай Витальевич. — Хоть напоследок налюбуюсь степью. Поклонюсь широким нивам, милому Жовнину, зеленым берегам Сулы… Думалось, всё, как и раньше, окончится разговорами. Однако в конце июля отец попрощался с нами и отправился пароходом вниз по Днепру до Богуна, откуда уже на лошадях добрался до села Галицкого, где не бывал лет сорок. Остановился он у своих двоюродных сестер, Юлии и Елизаветы Лысенко, в их родовом доме. Всего две недели пробыл в родных местах, но за это время успел объехать все знакомые с детства села: Липовое, Жовнин, Светиловку, Стов-боваху, Слюзовку, Горбы, Гриньки, Клищинцы (где родился Михайло Старицкий) — и возвратился в Китаев помолодевшим на несколько лет, бодрым, в чрезвычайно приподнятом, светлом настроении. В Китаеве, а затем и в Киеве, куда мы вскоре выехали, отец все рассказывал нам о своей поездке по родному краю, поездке, разбудившей в нем самые дорогие воспоминания о далекой юности. — Помните доброго моего приятеля Данила Стовбырь-Лимаренко? Бывало, приедем с Михайлом Старицким на каникулы — и сразу к Даниле. Втроем всю Полтавщину измерили, не одну песню записали. Очень хотелось его увидеть, но даже не верилось, что он жив. Полвека прошло. Не шутка. И что вы думаете? Появился в Галицком Данило, как только прослышал о моем приезде.
 Лысенко (справа) и Созонтий Деревянко, село Гриньки на Полтавщине (1911 г.).
Лысенко (справа) и Созонтий Деревянко, село Гриньки на Полтавщине (1911 г.).
 Памятник Лысенко в селе Гриньки на Полтавщине.
Памятник Лысенко в селе Гриньки на Полтавщине.
 Постановление Совета Народных Комиссаров УССР и Центрального Комитета КП(б)У об увековечении памяти Н. В. Лысенко в связи со 100-летием со дня рождения композитора.
Постановление Совета Народных Комиссаров УССР и Центрального Комитета КП(б)У об увековечении памяти Н. В. Лысенко в связи со 100-летием со дня рождения композитора.
Оставил его молодым парубком, а увидел семидесятитрехлетнего деда. В самую жару в такие годы восемь верст отмахал, лишь бы повидаться. Многое вспомнилось, еще больше песен старых казацких перепето за день… будто в гостях у молодости своей побывал. Еще одна встреча. В Жовнино Павловские, давние знакомые семьи Лысенко, помогли Николаю Витальевичу отыскать то место, где стояла когда-то старая панская усадьба. Остались одни развалины да старое, чудом уцелевшее дерево, чернеющее одиноким стражем… Немало было встреч и долгожданных, и неожиданных, и радостных, и грустных, но особенно взволновала отца одна встреча в Гриньках, где он родился, где прошли его детские годы. — От Галицкого до Гриньков верст тридцать. Тетки ваши все отговаривали меня: дескать, далеко и жара. А я все же нанял лошадей и поехал. Жара страшная. Дороге конца не видно. Хорошо еще, что наш возница, ветхий дедок, оказался на диво говорливым. Он хорошо помнил лютые времена крепаччины и всю дорогу рассказывал нам истории одна другой страшнее о барстве диком, о нечеловеческих издевательствах панов над крепостными. Словом, набрался я стыда и срама за своих земляков — полтавское панство. Слушаю деда, а мысль одна покоя не дает. Кого из знакомых селян встречу в Гриньках? Жива ли хотя бы память о нашем Созонте, «дядьке» моем и друге-воспитателе? Дед ваш доверял ему как самому себе и приставил Созонта ко мне на все годы учения — ив гимназии и в университете. …Созонт Деревянко и раньше встречался в рассказах отца. Многочисленные истории, настоящие новеллы о своем старом «дядьке» Николай Витальевич неизменно заключал такими словами: «Хотите представить себе Созонта, перечитайте «Капитанскую дочку» Пушкина: Созонт мой — живая копия верного Савельича, правда, на украинский лад». — Наконец-то довез меня дедок в Гриньки, — продолжал отец. — Первую встречную молодицу спрашиваю, слыхала ли, помнит ли кто на селе Созонта Деревянко? — А чего его помнить? Умер он разве, чтоб его в святцы записывать? Если хотите повидать старого, идите прямо: хата его край села. Признаться, я не поверил. Уже за девяносто перевалило деду, неужели жив? А вышло, как сказала молодица. Деда мы дома не застали; сказали нам: где-то вблизи скотину пасет. Сидим с возницей на завалинке, ждем. Смотрю, не идет, а бежит мой Созонт (и откуда у него столько прыти набралось!). В белой полотняной одежде, сам белый как молоко. Сразу узнал меня, обнимает, целует. А лицо у старого мокрое от слез. «Это, — говорит, — на радостях, Микола. И не снилось такое счастье». …Целый день провел Николай Витальевич в хате своего верного «дядьки». Собрались свояки, соседи. Дед Созонт чувствовал себя героем дня. Он видел, как люди чествуют его Миколу, и весь светился от гордости. — Летят годы. Кажется, совсем недавно голубчиком, баловником называл. А теперь в какие люди вышел! — говорил он, не скрывая слез, которые медленно катились по его морщинистому лицу. Прошлое переплеталось в сердечных разговорах с сегодняшним, наболевшим. — Что и говорить: невесело живется моим землякам, — рассказывал отец. — То засуха, то дождик, и все гниет на корню, то неурожай, а хуже саранчи царские слуги, сборщики налогов: после них в мужицкой избе хоть шаром покати. Нет, не зря говорят в народе: «Один с сошкой, а семеро с ложкой». Одна надежда на будущее. Не всегда народу терпеть такие муки. Рассказывал отец о грустном своем прощании с Гриньками, о том, как провожали его всем селом. А мне все виделась одинокая фигура старого Созонта. Стоит посреди дороги и долго из-под косматых бровей всматривается в даль, где в волнах степ-ного моря то выплывает, то тонет маленький возок с дорогим гостем. — На следующий год мы вместе поедем на Полтавщину, — говорил мне отец. — Хочу, чтобы и ты, Остап, на моей родине побывал. Так думалось, да не вышло. Летом 1912 года больное сердце погнало отца за границу, а осенью его не стало. Внезапная смерть Н. В. Лысенко, как гром среди ясного неба, тяжко поразила его друзей и почитателей. «С Николаем Витальевичем связаны у меня воспоминания самых дорогих молодых лет, — одной из первых откликнулась на смерть Лысенко Леся Украинка, — в его доме столько пережито незыбываемого! Старицкий, Лысенко — эти имена для других принадлежат только литературе и таланту, а для меня это живые образы близких и родных людей, которые, естественно, никогда не умирают, пока живет наше сознание. Не знаю, будет ли кто из младшего поколения вспоминать обо мне с таким чувством, как я теперь вспоминаю Николая Витальевича и Михаила Петровича (я все их вижу теперь рядом!), но я хотела бы это заслужить». Среди многих цветов чудесной «рожей», «мальвой» легла на Лысенкову могилу «Песня-цветок» Днипровой Чайки, вдохновенное, искреннее слово друга. «Лысенко, — писала Чайка, — был другом всем народам на земле. Люди всех направлений, национальностей, разного возраста, пола и удачи — все тянулись к его нежной, ясной, бескрайне приветливой душе, и всем он уделял живую целительную воду из неисчерпаемого своего источника. Под широкими крыльями его души объединялись, братались, находили надежду и любовь к жизни… Мягкий и добросердечный ко всем, он, однако, умел метко затронуть душу грешную, душу опустошенную, равнодушную или неискреннюю и изменчивую, как глубоко она бы ни прятала измену. От его исключительно тонкого слуха не могла утаиться мельчайшая фальшь, неискренность или нечисть». За несколько дней до смерти, в октябре 1912 года, отец в последний раз встретился с Коцюбинским: вместе со мной посетил он больного писателя в бывшей университетской клинике профессора Образцова. Коцюбинский лежал один в небольшой светлой комнате. На окнах, на белом столике — всюду цветы: розовые и снежно-белые астры, пламенеющие георгины, нежные гортензии. Михайло Михайлович хотел подняться нам навстречу, но отец, предупредив его, сам подошел к кровати. Сразу бросились в глаза, больно поразили очень заметные изменения во внешности Коцюбинского. Лицо его побледнело, вконец обескровленные руки бессильно белели на одеяле, казалось, только глаза жили в этом истощенном теле. — Такой гость, а приходится лежать. А все же, что ни говорите, нет лиха без добра: не заболей я, не попасть мне так скоро в Киев, не увидеться нам с вами, — сказал он тихо, и на какое-то мгновение на бледном лице проскользнула знакомая, до боли милая его улыбка. На этот раз больше говорил отец, стараясь не очень утомлять больного. Михайло Михайлович все расспрашивал о последних политических событиях, интересовался литературными новинками, деятельностью нелегального «Общества развития украинской науки и искусства». Нужно сказать, что «Общество» (его казначеем был Николай Витальевич) полностью взяло на себя содержание Коцюбинского в клинике. Значительную денежную помощь получала от Общества и семья писателя. Последняя встреча отца с Коцюбинским не была длительной. Николай Витальевич не хотел волновать своего друга. А через несколько дней, неожиданно для всех, остановилось сердце самого Николая Витальевича. Как в тумане вижу огромные толпы народа. Море людских голов. «С уверенностью, как стоит Киев, не было таких похорон», — год спустя писала Олена Пчилка. На целый километр растянулась траурная процессия. Десятки тысяч людей — украинцы, русские, белорусы, поляки, грузины, армяне шли за гробом, покрытым красной китайкой. «Духи» и здесь не оставили в покое создателя гимна «Вечный революционер», пытались сорвать с гроба красную китайку. По распоряжению полиции ворота Байкового кладбища закрыли, и тысячи людей не смогли проститься с умершим. Как я узнал после, похороны Николая Витальевича были даже засняты на кинопленку. «Крамольную» картину, однако, власти вскоре запретили. Известно, с какой болью сообщил обо всем этом Алексею Максимовичу Коцюбинский, как задушевно откликнулся на печальную весть Горький: «Смерть Лысенко, — писал он Коцюбинскому, — понимаю как огромную потерю, но, читая описание его похорон, ощущаю какой-то трепет радости в сердце: как любит народ своего человека. Как глубоко поучительна эта грустная, но такая величественная, прекрасная церемония проводов человека, который отслужил своему делу, и как радостно ощущать, что народ понял величие его работы. Прекрасна и смерть, если она ведет за собой такое пробуждение жизни, такой пламенный расцвет чувства любви к покойному».
* * *
Летом 1914 года, под самую войну, задумали мы с товарищами повторить последнюю поездку Николая Витальевича, посетить все Лысенковы места. Спустились пароходом до Богуна, оседлали свой «багаж» — новенькие велосипеды бельгийской фирмы — и покатили в Галицкое. Проехали Веремеевку, большое казацкое село, поднялись на гору, и, поверьте, дух перехватило: куда ни глянешь — как в песне «Степь да степь кругом». Кое-где виднеются хаты, изредка казацкие могилы вдоль дороги, по которой шли когда-то татары на Украину. А вот и Галицкое. Родичи не знали, где нас посадить. Уж очень обрадовались нежданному приезду. До вечера водили по тем местам, где всего три года тому назад прогуливался отец. Вот старый садочек, ветвистая груша, под которой, по преданию, родился мой дед Виталий Романович Лысенко. Из сада тетки повели нас на Сулу, где отец подолгу простаивал, любуясь ее зелеными берегами и чистой, как слеза, серебристой водой. Побывали мы в Жовнине, и внучка Павловских, не по годам серьезная особа, водила нас, как еще недавно Николая Витальевича, на развалины Лысенковой усадьбы. Чтобы не остаться в долгу, я прокатил девочку на своем велосипеде. За нами неслась стайка деревенской детворы, и глазенки у нашего строгого гида так сияли, что, надо полагать, в эту минуту не было на свете более счастливого человека. Последний пункт нашей «экспедиции» — Гриньки. Жив ли дед Созонт? Три года для его возраста — срок немалый. Вот и небольшая усадьба Деревянко. Знакомая, по рассказам отца, хата под соломенной стрехой. Во дворе я сразу заметил высокую фигуру в белом. Что-то мастерит около воза. Ну, конечно, дед Созонт! Назвался. Познакомил со своими попутчиками. Обнял меня дед. Отступил на шаг. — Дай-ка, голубчик, погляжу я на тебя. Смотри, какой сын вырос у сокола моего ясного! Отлетел он от нас. А я вот живу. Уже счет годам и горю потерял, а живу… Успокоившись, дед попросил нас в хату. Мы сразу накинулись на него с вопросами. И детство, и годы учения Николая Витальевича, и последний его приезд — все нам интересно. Дед Созонт еле успевает отвечать. Видно по всему: не впервые рассказывать ему о своем воспитаннике. — В детстве шибеник, сорвиголова был, каких мало. То, смотришь, на леваду убежит, то в погребе спрячется, так что до вечера ищешь. Чего греха таить, и мне за него, баловника, от пани, бабушки твоей, попадало. Зато как появятся в селе нашем музыканты — не узнать дитяти. Свадьба ли, праздник, а оно забьется в самую гущу, поближе к музыкантам, слушает. — Голубчик-пестунчик, — упрашиваю его, — пора домой, не то снова попадет нам «по самое покорно благодарю». Ольга Еремеевна, пани наша, была страх какая строгая. Куда там! Разве оторвешь его от музыки, от скрипки, что смеется и плачет. Для него скоро и инструмент купили. Пианино. Малое, а играло так, что не раз слеза прошибала. В своей белой льняной одежде, седой как лунь, дед Созонт напоминает нам доброго волшебника из сказки. И кажется, стоит ему поднять руку, и в хату вбежит маленький хлопчик, голубчик-пестунчик, влюбленный в музыку. — Не оглянулись, как подрос наш Микола, — продолжает дед. — Гимназию окончил. Славный такой паныч. Вызывает меня старый пан, говорит: «Поедешь, Созонт, с панычем в Харьков. Будет учиться в нуверситете. Гляди, хорошенько гляди паныча, а то в тех нуверситетах панычи теперь только в карты играют да вино пьют». Что и говорить. Набрался я беды в том Харькове. Панычу что? Молодо-зелено. Понятно, куда компания, туда и оно. А где компания, там и карты, вино. Я с Миколой и так и сяк. И уговариваю и, бывало, покрикиваю, лишь бы дитя от беды удержать. Тут, к счастью, и самому Николаю Витальевичу такая «наука» надоела. Год спустя в Киев переехал, тоже в нуверситет. И сразу будто подменило паныча. Другим человеком стал. Такая у нас жизнь пошла, такие славные хлопцы стали к нам приходить, любо-дорого. Паны, а одеты по-нашему: в чемарках, в шароварах. Все что-то читают, пишут, песни украинские поют. Сколько знал я песен, все пропел Миколе. Поедем летом в село на вакации. Старая барыня просит: «Отдохни, Микола, на тебе уже и лица нет от этой науки». Разве послушает! Вдвоем с Михайлой ходят от села к селу, от хаты к хате. «Вижу, — говорю, — Микола Витальевич, что ты все песни надумал записать. Так знай, что на Украине их столько, сколько звезд на небе». Смеется: «Звезды звездами, да не для всех они сияют». …Пока мы разговаривали с дедом, подошли соседи, стали вспоминать последний приезд отца. — Обещал снова приехать. А не судилось ему, сердечному, — заговорил кто-то. — Хоть из панов, а наш он. И песни его наши. Умер, а разве есть такие села, где бы не пелась Лысенкова песня. …Незаметно подкрались сумерки. Нам пора. Прощаемся. Дед Созонт подводит меня к скрыне. — Тут разные вещи твоего отца. Всю жизнь берег. Бери, сынку. Старый я. Скоро помру. А ты храни, храни память об отце, о соколе нашем! …Студенческая шпага, редкие фотографии 50— 60-х годов. Я не знал, как благодарить Созонта за такой подарок. И снова дорога… Долго, все еще под впечатлением встречи с дедом Созонтом, мы ехали молча. Пахучими волнами омывал, подхватывал нас степной ветер. Навстречу катился красный месяц. Вся степь, казалось, превратилась в серебристое море, а мы плыли все вперед и вперед. В ночь, в степное безмолвие… Ожили рассказы отца. В ту ночь я с особой силой ощутил, как много значила для него родная Полтавщина, эта степь без конца и края, села и люди, чьи страдания, чьи муки и надежды всегда живили его песнюh3> В СЕМЬЕ ВОЛЬНОЙ…

Жизнь — борьба. — «Лысенковеды». — «Благодетель» композиторов. — Осуществленная мечта. — «Реве та стогне Дніпр широкий»… на берегах Невы. — Руками народа
Когда теперь, давно переступив восьмой десяток, я снова возвращаюсь к прошлому, снова день за днем вспоминаю месяцы и дни, проведенные с отцом, то все яснее вижу, каким трудным и тернистым был его путь. Каждый день его жизни — труд и борьба. С тех пор как я себя помню, отец был уже зрелым композитором, автором таких широко известных опер, как «Тарас Бульба», «Рождественская ночь», «Утопленница». К тому времени им был написан почти весь шевченковский цикл. Его произведения исполняли оркестры и хоры. Его песни пел народ. Однако официальная, «казенная» печать на Украине упрямо замалчивала Лысенко или всячески поносила его. Украинские монархисты, рыцари «шинельного, квасного» патриотизма, как и великорусские шовинисты, ненавидели Лысенко. Они захлебывались от злости и ненависти, на все лады ругая «холопского, мужицкого композитора». С другой стороны, продолжали свое черное дело украинские, националисты, не раз пытались они на имени Лысенко заработать себе политический капиталец. Этим господам, именно потому, что они знали, с какой любовью и уважением относится народ к Лысенко, очень хотелось провозгласить его, как и Шевченко, своим знаменем, своим вождем. И при жизни его они прямо из кожи лезли, чтобы «перевоспитать», загнать «заблудшую овцу» в националистическое стадо. Влиятельный среди украинских буржуазных националистов, О. Бородай в своих выступлениях сердито поругивал Николая Витальевича за то, что тот, неудовлетворенный знаниями, полученными в Лейпцигской консерватории, отправился на два года в Петербург к Римскому-Корсакову. — Нечего нам к москалям по науку ездить. Если учиться — так у немцев, у итальянцев. Нам такая музыка нужна, чтобв ней русским духом и не пахло, — твердил сей человеконенавистник… Украинские националисты всячески старались преуменьшить значение Лысенко как самобытного композитора, поднимая на щит только общественно-музыкальную деятельность (создание хора, собирание и издание народных песен, участие в работе «Общества развития украинской литературы и искусства»). И после смерти композитора они не прекращали свою возню вокруг его имени. Националисты лживо противопоставляли его творчество русской культуре. Некий Андриевский, махровый националист, опубликовал в оккупированном гитлеровцами Львове свой «труд», в котором с пеной на губах пытался «доказать» взаимную якобы враждебность, несовместимость Лысенко и русской музыкальной культуры. Выслуживаясь перед оккупантами, националистические «моськи», захлебываясь, твердили, что всем своим творчеством Лысенко обязан Западу, прежде всего — арийцам. Грубо фальсифицируя факты, они, ссылаясь на Лысенко, «находили» тождество, единство — интонационное и ритмическое — украинской и немецкой песни, и хотя, надо полагать, им хорошо были известны слова Лысенко: «Что пристало западно-европейской мелодии, то не соответствует славянской, в частности украинской, мелодии. И родились, и развивались они совсем в других условиях». (Из письма к Ф. Колессе.) Несмотря на клевету и угрозы националистов, народный композитор шел своей дорогой: из года в год разучивал с хором бессмертные создания Глинки и Чайковского, Мусоргского и Рубинштейна, до самой смерти переписывался с русскими композиторами и музыкантами, считая самым памятным событием в своей жизни встречу с Чайковским, призывал украинских этнографов и композиторов учиться у русских братьев. В своем докладе «Характеристика музыкальных особенностей малорусских дум и песен, исполняемых кобзарем Вересаем» Лысенко писал: «В то время как музыкально-песенный народный материал, обрисовывающий прошлую историческую и повседневную жизнь народа с его заветными идеалами и с семейно-домашними радостями и горем, доставил бы в общей массе богатый, обильный запас материала для эстетической характеристики личности народа, у нас это поле едва еще вспахано… В этом отношении на долю Севера, в его умственном и эстетическом центре… выпал лучший жребий и в отношении музыкально-этнографических работ. У нас же, на Юге, еще и художников не завелось». — Что касается последнего, — замечает музыковед А. Авраменко, — то Лысенко ошибся. На юге, а именно на Украине, в это время развивал свою деятельность он сам; исключительно чутко и глубоко понял особенности песенного творчества украинского народа и его связь с русской народной песней. Опираясь на творческую практику Глинки, Даргомыжского и таких идейно близких ему кучкистов, как Балакирев, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Лысенко провозглашает основой своего творчества близость к народной песенности и гордится тем, что именно русские композиторы сказали о нем первое серьезное, дружеское слово. Прочитав в Петербургской «Русской музыкальной газете» теплые, задушевные строки о своей композиторской деятельности, Николай Витальевич с глубокой благодарностью, хоть и не без горечи и боли, пишет ее редактору, известному музыковеду Финдейзену: «Милостивый Государь, Николай Федорович! Я получил апрельскую книжку «Русской музыкальной газеты», в которой помещен похвальный отзыв о моих хоровых десятках. Искренне вам благодарен за такой лестный прием моим сборникам в Вашей газете. Мне — пишущему, собирающему, составляющему, издающему — так редко приходится слышать в печатях речи о своих трудах, что даже диву даешься, как это люди, из их прекрасного далека, заметили меня, да вдобавок еще отрекомендовали публике в самом лестном тоне. …Ваше верное и вместе с тем печальное замечание, что в России людей труда вообще не ценят и не знают, находит особенно яркое свидетельство в провинции, где людей замалчивают умышленно, травят, инсинуируют их в печати, и потому рад бываешь, когда эти зоилы молчат; по крайности не забрасывают грязью человека…» Немало недругов, и в масках и без масок, было у Миколы Лысенко, но в своей борьбе за самобытную, глубоко народную музыку он не был одинок. Щедро наделила его жизнь друзьями-единомышленниками, верными побратимами. Среди них писатели, чьи творения давно уже стали нашей гордостью и славой, ученые и художники, композиторы и артисты. «Я горячо люблю украинскую музыку. Если Чайковского мы называем чародеем русской музыки, то Лысенко, этого чудесного и восхищающего красотой своей музыки композитора, мы смело можем назвать солнцем украинской музыки», — так писал еще при жизни композитора К. С. Станиславский. И словно к солнцу, всегда тянулась к Николаю Витальевичу демократическая молодежь. Я не раз видел, как светлело лицо отца в дружном кругу хористов — студентов, молодых железнодорожников, семинаристов. Прав, тысячу раз прав был Николай Витальевич, когда в самые трудные дни своей жизни говорил: — Нечего вешать голову. Все, что есть на Украине здоровое, сильное, честное, — с нами!
* * *
Многим известно, что Николай Витальевич Лысенко полстолетия отдал композиторской деятельности. За это время он написал больше тысячи самобытных, самых различных по форме произведений (оперы для взрослых и детей, фортепьянные, симфонические и вокально-симфонические произведения, хоры, романсы, песни). Но вряд ли кто знает, что композиторство за все годы не приносило Николаю Витальевичу почти никаких материальных выгод. Прокормить семью Николай Витальевич мог только своей преподавательской работой. Прославленному композитору приходилось массу времени тратить на частные уроки, на преподавание музыки в Институте благородных девиц. Только ночами мог он заниматься любимым делом. Известно, какую радость приносит творцу завершение задуманного труда. Для Николая Витальевича именно с этого момента начинались мучительные странствия по «Дантову аду». Первый круг — цензура. «Если бы вы знали, что делает цензура с украинской продукцией — противно вспоминать», — жалуется Лысенко Ивану Франко 30 марта 1887 года. А вот письмо от 12 декабря 1894 года, тоже адресованное великому Каменяру: «Надо Вам знать, что цензура… с новым царствованием стала бешеной и лютой, как никогда раньше. Уже дошло до того, что запрещаются обычные сборники бытовых песен, чтоб и звука не было украинского. Они стремятся к полному уничтожению слова, звука, что только пахнет украинским». Как убедительную иллюстрацию к этим письмам, приводим доклад цензора Степурского на заседании цензурного комитета в Петербурге. «В присланной при предложении главного управления по делам печати рукописи на малорусском наречии под заглавием «Збірник українських пісень» М. Лысенко находится несколько песен, обращающих на себя внимание в цензурном отношении: 1) В песне «про Калнышевского» говорится об угнетенном состоянии, в которое запорожцы были приведены панами; 2) в песне «Тече вода з-під каменю» упоминается об упразднении императрицей Запорожского войска; 3) в песне «Ой, горе тій чайці» под видом горькой судьбы чайки и ее детей оплакивается историческая судьба Малороссии…» В четвертой песне «Вылетали орлы из-за крутой горы» также, по мнению цензора, «нельзя не видеть намека на историческую судьбу Малороссии». «Таким образом, — заключает цензор, — все эти 4 песни неудобны для печати по своей политической, украинофильской, тенденциозности. Что же касается остальных песен сборника Лысенка, то они по содержанию своему не заключают в себе ничего противоцензурного и могли бы быть напечатаны, если бы печатание текстов к музыкальным нотам не было воспрещено высочайшим повелением, состоявшимся 18/30 мая 1876 г. и объявленным цензурному Комитету, для неуклонного руководства, в предложении Главного Управления по делам печати, от 5 июня того же года за № 3151». Из этого «доклада» так и выглядывает щедринский градоначальник «Органчик», изрекающий по любому поводу и без повода: «Не позволю!» «Запорю!» В одной песне — «намек», в другой — политическая, «украинофильская тенденциозность», а на песню, где нет ничего «противоцензурного», накладывает свою лапу высочайший запрет печатать тексты… к музыкальным нотам. Но вот разрешение получено. Хочется скорее выпустить свое «дитя» в свет. И… начинается второй круг «Дантова ада»: печатать свои произведения Николай Витальевич мог только за свой счет. Где взять денег? Как издать? Всю жизнь этот проклятый вопрос мучил композитора. «Конечно, можно найти выход, — нашептывали разные людишки, — достаточно посвятить два-три произведения его императорскому величеству, милости посыплются со всех сторон». Николай Витальевич избрал иную дорогу. Он не раз отказывался от «выгодных» предложений, чтобы сохранить свою творческую свободу, честное имя народного композитора. И снова влезал в долги, чтобы оплатить новое издание. Был счастлив, когда тираж достигал 400–500 экземпляров. Это случалось редко. Чаще тираж оперы не поднимался за сотню. Неверно было бы утверждать, что издание произведений Лысенко (пусть и малым тиражом) до революции не давало никакого дохода; но отец получал за свою работу такую мизерную сумму, которой едва хватало на покрытие издательских расходов. Зато львиная часть вырученных денег неизменно попадала в виде комиссионных в бездонный карман книго-нототорговца Идзиковского, через руки которого проходило все напечатанное отцом. Господин Идзиковский, сын польского шляхтича, получил чисто французское воспитание и бредил Парижем. Однако из Киева он и не думал уезжать до тех пор, пока не подготовит в Киеве «фундамент для Парижа». «Фундамент», надо думать, получился солидным. На нем, словно грибы после дождя, выросли в Киеве и Варшаве книжные и нотные магазины фирмы «Леон Идзиковский». Он приходил к нам в своем черном смокинге, в светлых с крапинкой панталонах, так тесно обтягивающих его дородное тело, толстые икры, живот, что, казалось, это и есть его естественная кожа. Серые глазки на полном, всегда красном, даже багровом лице бегают по углам кабинета. Слова — горохом: — Говорят, Николай Витальевич, вы написали новую вещь, шедевр. Почему не издаете? Что, снова де-нег нет? Беда мне с вами, композиторами. Вам что — написал, и горя не знаете. А Идзиковский ломай себе голову, как издать, где найти покупателя и продать, продать, продать. Вот поеду в Париж, пропадете без меня. Клянусь честью! Кончался визит тем, что он за гроши скупал рукописи «на корню», чтобы самому издать их с надписью, которая вряд ли нуждается в комментариях: «собственность издателя». Потирая свои маленькие пухлые руки, Идзиковский продолжал своим бодрым тенорком: — Вот видите, все устраивается. Теперь есть у вас деньги на будущее издание. Все идет к лучшему в этом лучшем из миров. Он хорошо знал непрактичность, полное неумение отца вести денежные дела и очень ловко этим пользовался. Произведения отца не залеживались на полках киевских и варшавских магазинов фирмы «Леон Идзиковский». Ловкий делец получал тысячи, а Лысенко — гроши. При всем этом господин Идзиковский всюду рекомендовал себя другом и благодетелем, единственным популяризатором Лысенко, Стеценко, Степового, Леонтовича. Он настолько врастал в свою роль, что сам начинал верить, будто он и есть тот ангел-хранитель, без которого украинская музыка не проживет и дня. Отец видел «благодетеля» насквозь, но не порывал с ним. — Зачем? — говорил он. — Не Идзиковский, так другой. Что блоха серая, что черная — один черт. Все равно: вол пашет, а блоха на нем скачет да еще и кровь пьет.
* * *
Микола Лысенко не дожил до того времени, когда Украина стала советской, вошла в братский Союз Социалистических Республик. Как и Шевченко, Лысенко верил, что в «семье вольной, новой» его, возможно, не забудут, вспомнят «не злым, тихим словом». Но мог ли он даже предположить, какие новые могучие крылья даст революция его песне! Не так давно побывал я по делам консерватории в Ленинграде. …Командировка подходила к концу, и за день или два до отъезда я выбрался на набережную Невы, чтобы еще раз полюбоваться ее строгим, закованным в гранит течением, стройным и изящным, всегда каким-то праздничным Зимним дворцом, площадью Декабристов. Старость всегда тянет к молодости. Может, поэтому я незаметно для себя оказался рядом с шумной компанией юношей и девушек. Судя по разговору, это были студенты Киевского политехнического института. Приехали в Ленинград на практику и теперь, знакомясь с городом, «атаковали» меня, приняв, видно, за ленинградца-старожила. Студенты с гордостью и не без права называли себя «малым интернационалом»: были среди них русские и китайцы, украинцы и румыны — явление обычное в наши дни, однако всегда особенно радостное для меня, познавшего погромы черносотенцев, «подвиги» криводержавия, раздувавшего вражду между народами, ядовитые речи и кровавые дела украинских буржуазных националистов. Не помню, кто начал, но вскоре мелодия, догоняя острокрылых чаек, понеслась над Невой. То, о чем мечтал отец, пропагандируя в Соляном городке песни, музыкальную культуру славянских народов, встало передо мной зримо в этот августовский вечер на берегу Невы. Мелодии Глинки и Лысенко, Сметаны, русские, украинские, чешские, польские, китайские песни плыли над Невой… Хор замолчал. Девушки пошептались между собой, расступились, и на круг вышла маленькая стройная китаянка с иссиня-черной косой и застенчивыми чуть раскосыми глазами. Она, волнуясь, то и дело теребя косу, запела что-то на родном языке, и я сразу уловил знакомую с детства, любимую отцом мелодию: «Реве та стогне Дніпр широкий». На берегу Невы китаянка пела о Днепре. Пела, как поют о самом сокровенном, впитанном с воздухом родины. У песни оказалась своя история. Мелодия давно уже растаяла над Невой, а мы все еще молчали. Первой, по-прежнему смущенно улыбаясь, теребя свою иссиня-черную косу точно так, как это делают девчата где-нибудь под Полтавой, заговорила наша певица: — У нас в Китае давно поют эту песню. И в каждой провинции — про свою реку. Только в Киеве я узнала, что создал ее украинский поэт — большой друг народа. Хорошая песня в сердце каждого народа как дома. И почему-то подумалось мне, что, может быть, у этих самых львов Тарас Шевченко, мечтая о «семье вольной, новой», впервые произнес напоенные горечью и гневом словаp>Од молдаванина до фіна
На всіх язиках все мовчить.
* * *В семье вольной, новой свято почитается память народного композитора. Его имя присвоено Харьковскому театру оперы и балета, Львовской консерватории, музыкальным школам и училищам. Изданы произведения Н. В. Лысенко в двадцати томах. Не все оперы Лысенко при его жизни увидели сцену. Теперь «Тарас Бульба» дорог зрителям Киева, Харькова. Киевский театр оперы и балета недавно показал новые премьеры его детских опер, «Рождественскую ночь», «Энеиду». С эстрады и в колхозных клубах, в школах и дворцах культуры — всюду в исполнении профессиональных и самодеятельных хоров и оркестров звучат его произведения. Одна за другой осуществляются надежды Миколы Лысенко. Он пламенно, свято верил, что дело его продолжит молодежь, сильная, талантливая. Лишь на закате своей жизни Лысенко, открыв первую на Украине Украинскую музыкально-драматическую школу, сумел дать музыкальное образование нескольким одаренным детям из народа. Теперь много таких школ на Украине. И не только в городах, но и в селах. Сельская музыкальная школа! Разве мог об этом мечтать Микола Лысенко! Читателю, вероятно, захочется узнать, какими путями пошли дети Лысенко. Отец никогда не навязывал нам своей воли, но мы знали, как горячо он желал видеть нас среди своих учеников и помощников. И каждый из нас старался (естественно, в меру своих скромных сил) идти его дорогой. Профессором музыки при Львовской консерватории работала Марианна Николаевна. До самой смерти заведовала музыкальным отделом публичной библиотеки Академии наук УССР Екатерина Николаевна. Среди здравствующих детей композитора Галина Николаевна — тоже музыкант-пенсионер, и Остап Николаевич — музыковед, заведующий музеем Н. В. Лысенко при Киевской консерватории. Ему и принадлежат эти воспоминания. Верна семейным традициям и внучка композитора Рада Остаповна Лысенко — пианистка, популяризатор фортепьянного творчества Лысенко. Николай Витальевич Лысенко всегда был скромным человеком, он меньше всего думал о почестях и славе. И теперь на Байковом кладбище, где похоронены Леся Украинка, П. Саксаганский, М. Садовский, М. Заньковецкая, М. Старицкий, среди других дорогих нашему сердцу могил стоит скромный бюст композитора, единственный памятник Лысенко, любовно вылепленный в свое время скульптором Белостоцким.
* * *
Этими словами оканчивались мои воспоминания об отце, но как раз в те дни, когда дописывались последние строки, жизнь уже вносила свои поправки. Расскажу, однако, обо всем по порядку. Как-то в погожий сентябрьский день ко мне в кабинет-музей Н. В. Лысенко заглянули двое юношей. Вежливо здороваются и говорят: — Мы с Полтавщины, из Лысенковых Гриньков. Пришли к вам по важному делу. Наш колхоз имени Жданова поручил нам изготовить бюст для памятника вашему отцу, нашему великому земляку. Поставим памятник в центре села, чтобы видно было и малому и старому. А сами мы кончили среднюю художественную школу в Полтаве, некоторый опыт в лепке имеем, вас просим помочь материалами, добрым советом. Я, признаться, сначала заколебался: техникум техникумом, а хватит ли таланта и умения? Но уже одно известие о сооружении памятника в Гриньках глубоко взволновало. Выбрал я для молодых ваятелей фотоснимки и другие материалы, проконсультировал и пожелал им счастливого плавания в капризном море искусства. Пусть, думаю, за дело берутся, а там увидим. Что сумеют, то и сделают. Не взявшись за топор, и хаты не поставишь. Миновал месяц, как-то разбираю почту, гляжу — письмо из Гриньков. В конверте фото готового бюста. Глазам не верю: как, неужели дело рук моих юношей?! Представьте, чудесный вышел скульптурный портрет. Крылатая мысль, творческое вдохновение, и печаль, и боль, и вера в будущее — живой отец! Показал фото киевским ваятелям. «Молодцы, — говорят, — ваши гриньковчане! Профессионально сделано, а главное — с душой». Вскоре — снова письмо из Гриньков, от председателя колхоза имени Жданова. Приглашает на торжественное открытие памятника. Кинули мы клич молодежи. Собралась большая группа студентов консерватории. Подготовили программу концерта. К нашей группе во главе с Ф. Е. Козицким пристали и братья Майбороды — Платон и Георгий — известные наши композиторы. Прихватили мы с собой и подарки Гринькам: большой портрет Лысенко, книги, ноты — и поехали. Я подъезжал к селу, где не был без малого полвека. Где же они, эти убогие, прелой соломой крытые хаты, нищие, самим богом забытые Гриньки, где отец записал не одну песню, скорбью и слезами повитую, — крик порабощенной души народной? Куда оно, это лихо, подевалось? Каким добрым ветром его смело? Не узнаю Гриньки. Идем улицей, а по обочинам новые аккуратные хаты, и отовсюду поспешают на площадь люди: малое и старое, мужчины и женщины — село веселое, и люди веселые. Прибыли делегации из района, из других сел. На своих машинах, мотоциклах, велосипедах. А было же, когда на мой бельгийский велосипед смотрело как на чудо, как на диво дивное все село. Было да сплыло, новым, колхозным цветом поросло. Да что велосипед! Меня в школе юные гриньковчане так о спутниках расспрашивали, будто на следующий день сами собирались атаковать космос. Вот и сельская площадь. Вокруг памятника люди — голова в голову. Кажется, негде иголке упасть. Затаив дыхание слушает площадь ораторов. Один за другим выходят на трибуну гриньковчане, гости из Полтавы и столицы. Тепло и задушевно говорит об отце, о славных земляках его секретарь районного комитета партии. Выступает председатель колхоза имени Жданова, бывший партизанский майор, разумный, рачительный хозяин Василий Донец. Речь его о больших, радостных изменениях в артели за последние годы, об успехах гриньковчан и новых планах. И кажется мне, колхозный голова не только перед нами, присутствующими, отчитывается, но и перед незримым гостем на этом празднике народном — Миколой Лысенко. — Как мечталось тебе, кобзарь наш, так оно и сталось. «Миром, громадою» народ добыл себе волю и счастье на родной твоей полтавской земле. «Рабы немые» людьми стали, хозяевами сознательными, культурными творцами своей судьбы. …В тот же день колхоз устроил в помещении школы «вечерю», торжественный ужин. Помните «обед Дидоны» на юбилейном банкете в Полтаве 1903 года? Так вот, колхозная «вечеря» в Гриньках, когда-то убогих и нищих, перевесила тот «Дидоновский» банкет. «Разных потрав» (кушаний), сливянки и меду на колхозных столах было не меньше, а сердечности, веселья во сто крат больше. С каким нетерпением ждал тогда отец среди заносчивых бар конца неприятной для него церемонии, и с какой радостью посидел бы он в кругу всегда милых его сердцу гриньковчан за богатым колхозным столом! Но больше всего порадовали меня живые, буйные ростки новой культуры в Лысенковых Гриньках. Возможно, на том самом месте, где стояла когда-то корчма — единственная утеха обездоленного хлебороба, гриньковчане поставили памятник Ленину. Есть на селе также памятник павшим партизанам. Три памятника в Гриньках! Памятники сооружены руками и на средства колхозников: тут слова излишни. …В Гриньках мы заночевали. Приглашало все село. Да и самим хотелось обязательно побывать на закладке парка вокруг памятника Лысенко. С утра чуть морозило, но вот огненным колесом выкатило солнце, засияло по-весеннему и залило своими лучами всю площадь. Тут мы уже застали веселую толпу школьников. Это юные гриньковчане копают ямки для дубков. На площади смех, говор. Любопытные глазенки поглядывают на нас, гостей из Киева. Говорим об учебе, школе, а дело не стоит. Хлопцы работают серьезно, сосредоточенно, соревнуясь, кто больше накопает. Бережно, чтобы не повредить корни, высаживаем дубки. Мы — это школьники, гости, колхозный голова. А солнце поднимается все выше. И вот уже Микола Лысенко улыбается родным Гринькам, дубкам, детям: — «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» Хорошо мне с вамиh3> ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. В. ЛЫСЕНКО
1842, 22 марта (10 марта ст. ст.) — в семье мелкопоместного дворянина в селе Гриньки Кременчугского уезда Полтавской губернии (теперь Семеновского района Полтавской области) родился Николай Витальевич Лысенко. 1854 — Лысенко — ученик 2-й Харьковской гимназии. Занятия с выдающимся пианистом и педагогом Н. Д. Дмитриевым. Первые публичные выступления как пианиста. 1859 — Лысенко — студент Харьковского университета. 1860 — Студент Киевского университета. Начало собирания и записи народных песен. 1864 — Организует студенческий хор. Окончание Киевского университета. 1865 — Получает степень кандидата естественных наук. Собирание и запись народных песен на Киевщине. 1866 — Создание оперы-сатиры «Андриашиада». Либретто М. Старицкого и М. Драгоманова. 1867 — Поступление в Лейпцигскую консерваторию. 1868 — Лысенко в Праге: участие в концертах Агренева-Славянского и собственный концерт с исполнением обработок украинских народных песен для фортепьяно. Брак с О. А. О'Коннор. Музыка к «Заповіт» Шевченко. 1869 — Окончание Лейпцигской консерватории. Сочинение каденции к концерту Бетховена соль мажор. 1870 — Выход» из печати 1-й серии «Музыки к «Кобзарю» Шевченко». 1871 — Начало работы над оперой «Утопленница» («Майская ночь»). 1873 — Лысенко — член дирекции Киевского отделения РМО, член Юго-западного отделения Географического общества. Реферат «Характеристика музыкальных особенностей малорусских дум и песен, исполняемых кобзарем Вересаем». Вторая редакция «Рождественской ночи» (музыкальная комедия). 1874 — Постановка в Киевском оперном театре «Рождественской ночи» в пользу голодающих самарцев. Отъезд в Петербург и поступление в консерваторию в класс специальной оркестровки Н. А. Римского-Корсакова. Проект оперы «Маруся Богуславка». 1875 — Петербург. Выступления в концертах. Сближение с членами «могучей кучки». 1877 — Вторая редакция музыки «Заповіта» Шевченко. 1878 — Второй брак Лысенко, с О. А. Липской. 1880 — Начало работы над оперой «Тарас Бульба», либретто М. Старицкого. 1882 — Встреча с деятелями украинского театра М. Кропивницким и П. Саксаганским. Завершение оперы «Рождественская ночь» и ее инструментовка. 1883 — Постановка оперы «Рождественская ночь» в Харькове в присутствии автора. Окончание оперы «Утопленница». Кантата на слова Шевченко «Радуйся, ниво». 1884 — Постановка оперы «Рождественская ночь» в Одессе. Выход из печати клавира оперы «Рождественская ночь». Концерт при участии артистки Е. Лавровской. 1885 — Встреча с И. Франко (Киев). Первая постановка оперы «Утопленница» в Харькове. 1886 — И. Франко у Лысенко (Киев). Запись с голоса И. Франко галицких народных песен. 1888 — Детская опера «Коза-дереза». Статья «Дума о Богдане Хмельницком и Барабаше». 1889 — Окончание оперы «Наталка-Полтавка». Фортепьянные произведения. 1890 — Переписка с этнографом Ф. Колессой о народной песне и творческой направленности композиторов Западной Украины. Смерть отца. Выход из печати оперы «Наталка-Полтавка». Окончание клавира оперы «Тарас Бульба». 1891 — Встреча с П. И. Чайковским (Киев). Прослушивание оперы «Тарас Бульба» Чайковским в исполнении автора. Сочинение детской оперы «Пан Коцький». Начало оркестровки оперы «Тарас Бульба». 1892 — Детская опера «Зима и Весна». Музыка к драме М. Старицкого «Последняя ночь». 1893 — 25-летие творческой деятельности. Первая поездка с хором по Украине. Статья «Народные музыкальные инструменты на Украине». 1894 — Концерт, посвященный памяти А. Г. Рубинштейна. 1895 — Встреча с Н. А. Римским-Корсаковым (Киев). 1896 — Организация Литературно-артистического общества. Выход из печати оперы «Коза-дереза». 1897 — Смерть матери. Вторая поездка с хором по Украине. Четыре выпуска обрядовых песен. 1898 — Концерт в фонд помощи подпольным студенческим марксистским кружкам и арестованной революционной молодежи. 1899 — Третья поездка с хором по Украине. 1901 — Знакомство с писателем М. Коцюбинским. 1902 — Четвертая поездка с хором по Украине. 1903 — 35-летие творческой деятельности. Поездка в Галицию и Буковину на юбилейные празднества. Открытие в Полтаве памятника И. Котляревскому. 1904 — Празднование петербургской общественностью 35-летия творческой деятельности Лысенко. Открытие музыкальнодраматической школы Лысенко в Киеве. Концерт, посвященный 100-летию рождения Глинки (Киев). 1905 — Организация филармонического общества «Боян» во главе с Лысенко. Гимн «Вечный революционер» на текст И. Франко. 1907 — Арест Лысенко царской полицией. 1908 — Открытие Украинского клуба в Киеве. Председатель клуба — Лысенко. 1910 — Сдача в печать клавира оперы «Тарас Бульба». Опера-сатира «Энеида», либретто по поэме И. Котляревского, Н. Садовского. Постановка оперы «Энеида» труппой Н. Садовского. 1911 — Поездка в Москву и Курск для участия в концертах, посвященных 50-летию смерти Шевченко. 1912 — Лысенко заканчивает корректуру печати клавира «Тараса Бульбы». Одноактная опера «Ноктюрн» и опера «Летней ночью» (не закончена). Смерть Н. В. Лысенко (6.ХІ н. стh3> КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
I. Музыкально-драматические произведения Н. В. Лысенко
1866 — Опера-сатира «Андриашиада». Либретто М. Старицкого и М. Драгоманова. 1871— Оперетта «Черноморцы» в 3 действ. Текст М. Старицкого. 1877 — «Рождественская ночь», комико-лирическая опера в 4 актах. Либретто М. Старицкого. 1883 — «Утопленница» («Майская ночь»). Лирико-фантастическая опера в 3 действ. Текст по Гоголю М. Старицкого. 1888 — «Коза-дереза», детская комическая опера в 1 действ. Либретто Днипровой Чайки. 1889 — «Наталка-Полтавка», первая украинская народная опера в 3 действ. Либретто И. Котляревского. 1890 — «Тарас Бульба». Историческая опера в 5 действ., 7 карт. 1891 — «Пан Коцький» (Котофей). Детская комическая опера в 4 актах. Либретто Днипровой Чайки. 1892 — «Последняя ночь». Музыка к драме М. Старицкого «Зима и Весна» («Снеговая королева»). Детская фантастическая опера в 2 актах, либретто Днипровой Чайки. 1892–1902 — «Сафо». Неоконченная опера в 2 карт., либретто М. Старицкого. 1894 — «Волшебный сон» («Волшебная ночь»). Музыкальная феерия, либретто М. Старицкого. 1903 — «Ведьма». Музыкальная феерия, либретто Л. Яновской. 1910 — «Энеида». Комическая опера-сатира в 3 действ. Либретто Н. Садовского. 1912 — «Ноктюрн» («Ночная песнь»). Опера-миниатюра в 1 действ. Либретто М. Старицкого. «Летней ночью». Лирико-фантастическая опера в 2 действ., либретто Л. О’Кониор-Вилинской.
II. Вокальные произведения
1868 — «Заповіт» Шевченко для соло тенора и мужского хора. Первый выпуск сборника украинских народных песен для голоса с фортепьяно (40 песен). 1869 — Второй выпуск украинских народных песен для голоса с фортепьяно (40 песен). 1870 — Первая серия «Музыки к «Кобзарю» Шевченко» (песни, романсы, ансамбли). 1874 — «Молодощи» — сборник детских и девичьих игр и веснянок. 1876 — Третий выпуск сборника украинских народных песен для голоса с фортепьяно. 1878 — «Вьют пороги», кантата (слова Т. Шевченко). Вторая серия «Музыки к «Кобзарю» Шевченко». 1882 — «Радуйся, ниво», кантата (слова Т. Шевченко). 1886 — «Первый десяток» украинских народных песен для хора. 1887 — «Четвертый десяток» украинских народных песен для голоса и фортепьяно (40 песен). «Второй десяток» украинских народных песен для хора. 1889—«Третий десяток» сборника украинских народных песен для хора. 1891 — «Четвертый десяток» украинских народных песен для хора. 1892 — Пятый выпуск украинских народных песен для голоса и фортепьяно. «Пятый десяток» украинских народных песен для хора. Третья серия «Музыки к «Кобзарю» Шевченко» (романсы и ансамбли). 1893 — Четвертая серия «Музыки к «Кобзарю» Шевченко». 1895 — «На вечную память И. Котляревскому», кантата (слова Т. Шевченко). Шестой выпуск украинских народных песен для голоса и фортепьяно. 1897 — Четыре выпуска украинских обрядовых песен. «Шестой десяток» украинских народных песен для хора. 1898 — «Седьмой и восьмой десятки» украинских народных песен для хора. Пятая серия «Музыки к «Кобзарю» Шевченко» (романсы и хоры). 1900 — «Девятый и десятый десятки» украинских народных песен для хора. 1902 — «Песни и романсы на тексты разных авторов. Седьмая серия «Музыки к «Кобзарю» Шевченко» (смешанные хоры). 1903 — «Одиннадцатый и двенадцатый десятки» украинских народных песен для хора. Пятый выпуск украинских обрядовых песен (свадебные). Шестая серия «Музыки к «Кобзарю» Шевченко». 1905 — Гимн-хор «Вечный революционер», слова И. Франко. 1908 — Сборник украинских народных песен в хоровой обработке для учащихся младшего и старшего возраста. 1911 — Кантата «К 50-летию смерти Т. Шевченко». Текст В. Самийленко. Седьмой выпуск украинских народных песен для голоса и фортепьяно.
III. Фортепьянные произведения
1869 — Сюита соль мажор в 6 частях на темы украинских народных песен. 1869 — Каденция к фортепьянному концерту Бетховена соль мажор. 1875 — Первый и второй концертные полонезы: ля бемоль мажор и соль мажор. Первая рапсодия на украинские народные темы. Концертный вальс ре минор. 1876 — Соната ля минор. 1877 — Вторая рапсодия «Думка-шумка». 1880 — Героическое скерцо. 1888 — Гавот фа мажор. 1891 — Украинский козак-шумка (в 4-ручном изложении). 1897 — Пьеса — украинская народная песня «Без тебя, Олеся». 1900 — Экспромт соль диез минор. 1902 — «Три украинские народные песни» — соль минор, си минор, соль минор. 1908 — Кубанский войсковой марш ре бемоль мажор. 1909 — Траурный марш
IV. Камерно-инструментальные ансамбли
1869 — Струнный квартет. Струнное трио. 1872 — Фантазия на украинские темы. 1894 — Элегическое каприччио. 1897 — Украинская рапсодия. 1912 — Элегия памяти Шевченко.
V. Симфонические произведения
1869 — Симфония. 1872–1873 — Фантазия для оркестра «Украинский козак-шумка».
VI. Научно-теоретические работы
Характеристика музыкальных особенностей малорусских дум и песен, исполняемых кобзарем Вересаем. Дума о Б. Хмельницком и Барабаше. О торбане и музыке песен Видорта. Народные музыкальные инструменты на Украине.
VII. Основная литература о Н. В. Лысенко
М. Старицкий, К биографии Н. В. Лысенко (Воспоминания). Журнал «Киевская старина», Киев, 1904. С. Людкевич, Н. В. Лысенко как творец украинской национальной музыки (на украинском языке). Журнал «Литературно-науковий вістник», Киев, 1913. Д. Ревуцкий, Автобиография Н. В. Лысенко. Киевская государственная консерватория, кафедра истории музыки. «Украинское музыкальное наследие». Д. Ревуцкий, Музыкальное образование Н. В. Лысенко. Киевская государственная консерватория, кафедра истории музыки. «Украинское музыкальное наследие». Изд-во «Мистецтво», Киев, 1940. Л. Архимович, М. Гордийчук, Институт искусствоведения, фольклора и этнографии АН УССР. «Н. В. Лысенко. Жизнь и творчество» (на украинском языке). Изд-во «Мистецтво», Киев, 1952. М. Михайлов, Композитор-демократ Микола Лысенко. Об-во распространения политических и научных знаний УССР. Киев, 1952. А. Гозенпуд, Н. В. Лысенко и русская музыкальная культура. Музгиз, М, 1954. О. Н. Лысенко, Народно-освободительные идеи в творчестве Н. В. Лысенко в предреволюционный период и в революцию 1905–1907 гг. Научно-методические записки Киевской консерватории. Изд-во изобразительного искусства и музыкальной литературы, Киев, 1957. О. Лысенко, Н. В. Лысенко (воспоминания сына). Изд-во изобразительного искусства и музыкальной литературы, Киев, 1959h3> Примечания
1
Т. Шевченко. (обратно)2
Погреб. (обратно)3
Желчь. (обратно)4
Как сера. (обратно)5
Хватит шутки шутить. (обратно)6
Светильник. (обратно)7
Тот университет наш, так как из Вильно перенесен. Да здравствует Польша от моря до моря! (обратно)8
Кто это сказал, тот дурак! (обратно)9
Господа, неужели и теперь мы не станем искать согласия? Неужели не доходит до вас последняя святая молитва Тараса? (обратно)10
Разжигая национальную рознь, не допуская евреев в гимназии и университеты, царское правительство одновременно поддерживало связь с реакционными религиозными еврейскими общинами и даже заботилось о подготовке соответствующих «кадров» — казенных раввинов. С этой целью и была создана Житомирская школа раввинов. Директорами этой школы обычно назначались неевреи. (обратно)11
Верхняя крестьянская одежда. (обратно)12
Галичан. (обратно)13
Филармония. (обратно)14
Церковь Фомы. (обратно)15
Известный русский певец и хоровой дирижер. (обратно)16
Зал дома мастеров искусств. (обратно)17
Товарищ Н. В. по университету. (обратно)18
Владелец нотопечатни. (обратно)19
Приятель Лысенко. (обратно)20
Булюбаш. (обратно)21
Этнограф, приятель Лысенко. (обратно)22
Оперетта «Черноморцы» написана Лысенко по повести Кухаренко «Черноморский быт», как всегда, в соавторстве со Старицким (либреттистом) в 1872 году. Сюжет ее несложен и близок к «Наталке-Полтавке». (обратно)23
Римский-Корсаков. (обратно)24
«Боже, царя храни». (обратно)25
«Черевички» Чайковского и «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова. (обратно)26
Отдохнут. (обратно)27
Пробудится. (обратно)28
Украинская писательница Ганна Барвинок. (обратно)29
Институт благородных девиц, где отец преподавал. (обратно)30
«Современное литературное направление» — статья Нечуя-Левицкого. (обратно)31
Украинская культурно-просветительная организация. (обратно)32
Сейчас площадь Сталина. (обратно)33
Головной убор замужней женщины — вроде чепчика. (обратно)34
Иконы (обратно)35
Заштатные. (обратно)36
Печалится. (обратно)37
Так И. Франко называет концерты украинской и русской музыки. (обратно)38
Имеется в виду опера Лысенко «Тарас Бульба» по повести Гоголя. (обратно)39
Приветствие с текстом Ивана Франко хранится в кабинете-музее Н. В. Лысенко при Киевской государственной консерватории. (обратно)40
Горцы. (обратно)41
Из тьмы. (обратно)42
Перевод Б. Турганова. (обратно)43
Труда. (обратно)44
Днипрова Чайка — литературный псевдоним Людмилы Алексеевны Василевской. (обратно)45
Мальва. (обратно)46
В. И. Ленин, Соч., т. 20, стр. 199. (обратно)47
И. Я. Франко благодарил за «Вечного революционера». (обратно)48
«Союз певческих и музыкальных обществ», основанный в 1903 году. (обратно)49
Экспедицию киевских ученых-археологов возглавлял известный знаток старого Запорожья Д. О. Эварницкий, кстати, в свое время сообщивший немало интересных деталей Илье Репину для его знаменитой картины «Запорожцы». (обратно)50
Корма. (обратно)51
Перевод Б. Хандроса. (обратно)52
В кабинете Н. В. Лысенко при Киевской консерватории сохраняется ряд документов, свидетельствующих о подготовке оперы «Тарас Бульба» к постановке в Петербурге. Первый из них — рукопись партитуры Лысенко, в которой он на русском языке сделал все авторские ремарки, текст пояснений к каждому действию и текст либретто. Сохраняется и рукопись либретто М. Старицкого (лишь два действия). Рукой Лысенко в либретто красными чернилами сделаны купюры, и напротив имен действующих лиц его же рукой написаны фамилии актеров петербургского Мариинского театра. Например: Тарас Бульба — Стравинский (Серебряков), Остап — Яковлев, Андрей — Фигнер, Настя — Славина, Воевода — Чернов, Марыльца — Медея (очевидно, Медея Фигнер), Татарка — Пальц, Кобзарь — Васильев III, Кошевой — Серебряков. (обратно)53
М. Садовский, П. Саксаганский, И. Карпенко-Карый. (обратно)54
Человеческий муравейник. (обратно)55
Волна. (обратно)Оглавление
МОИ ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ У СТАРИЦКИХ «АНДРИАШИАДА» ЛЕЙПЦИГ «ГДЕ МОЕ, ГДЕ НЕ МОЕ» ДВА ПЕТЕРБУРГА МУЗЫКА К КОБЗАРЮ В ГОСТЯХ У ПОБРАТИМОВ С ХОРОМ ПО УКРАИНЕ У СТАРОГО КАЗАКА НЕЧУЯ ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ И ДРУГ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ЛЫСЕНКОВА ШКОЛА «ДУХ, ЩО ТIЛО РВЕ ДО БОЮ» «РОДИНА — РОДЫНА» ПИСЬМА К КОЛЕССЕ «ТАРАС БУЛЬБА» ОПЕРА-САТИРА «КОГДА ПРЕКРАСНА И СМЕРТЬ…» В СЕМЬЕ ВОЛЬНОЙ… ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. В. ЛЫСЕНКО КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ *** Примечания***микола лысенко
‚ Запятая , .mw-parser-output .ts-Скрытый_блок{margin:0;overflow:hidden;border-collapse:collapse;box-sizing:border-box;font-size:95%}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-title{text-align:center;font-weight:bold;line-height:1.6em;min-height:1.2em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок .mw-collapsible-content{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;clear:both}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок .mw-collapsible-toggle{padding-top:.1em;width:6em;font-weight:normal;font-size:calc(90%/0.95)}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-rightHideLink .mw-collapsible-toggle{float:right;text-align:right}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-leftHideLink .mw-collapsible-toggle{float:left;text-align:left}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray{padding:2px;border:1px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent{border:none}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray .ts-Скрытый_блок-title{background:#eaecf0;padding:.1em 6em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent .ts-Скрытый_блок-title{background:transparent;padding:.1em 5.5em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray .mw-collapsible-content{padding:.25em 1em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent .mw-collapsible-content{padding:.25em 0}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray.ts-Скрытый_блок-rightHideLink .mw-collapsible-toggle{padding-right:1em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent.ts-Скрытый_блок-rightHideLink .mw-collapsible-toggle{padding-right:0}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray.ts-Скрытый_блок-leftHideLink .mw-collapsible-toggle{padding-left:1em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent.ts-Скрытый_блок-leftHideLink .mw-collapsible-toggle{padding-left:0}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray.ts-Скрытый_блок-rightHideLink .ts-Скрытый_блок-title-rightTitle{padding-right:6.5em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray.ts-Скрытый_блок-rightHideLink .ts-Скрытый_блок-title-leftTitle{padding-left:1em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray.ts-Скрытый_блок-leftHideLink .ts-Скрытый_блок-title-leftTitle{padding-left:6.5em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray.ts-Скрытый_блок-leftHideLink .ts-Скрытый_блок-title-rightTitle{padding-right:1em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent.ts-Скрытый_блок-rightHideLink .ts-Скрытый_блок-title-rightTitle,.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent.ts-Скрытый_блок-rightHideLink .ts-Скрытый_блок-title-leftTitle{padding-left:0}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent.ts-Скрытый_блок-leftHideLink .ts-Скрытый_блок-title-rightTitle,.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent.ts-Скрытый_блок-leftHideLink .ts-Скрытый_блок-title-leftTitle{padding-right:0}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray:not(.mw-made-collapsible) .ts-Скрытый_блок-title.ts-Скрытый_блок-title{padding-right:1em;padding-left:1em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent:not(.mw-made-collapsible) .ts-Скрытый_блок-title.ts-Скрытый_блок-title{padding-right:0;padding-left:0}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок .ts-Скрытый_блок,.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок link .ts-Скрытый_блок{border-top-style:hidden}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок .mw-customtoggle{font-weight:normal;color:#202122}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-show,.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-hide{display:none;color:#0645ad}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок.mw-collapsed .ts-Скрытый_блок-show{display:inline}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок:not(.mw-collapsed) .ts-Скрытый_блок-hide{display:inline}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок:not(.mw-made-collapsible) .ts-Скрытый_блок-customtoggle{display:none}Изображение

,#44; или #x2c;
UTF-16
0x2C
URL-код
,
Запята́я (,) — знак препинания в русском и других языках. Иногда используется как десятичный разделитель.
Как знак препинания
В русском языке запятая используется на письме:
для обособления (выделения)
- определений, если определение находится после определяемого слова, либо имеет добавочное обстоятельственное значение, либо в случаях, когда определяемое слово является именем собственным или личным местоимением,
- обстоятельств, кроме тех случаев, когда обстоятельство является фразеологизмом; также в случаях, когда обстоятельство выражено существительным с предлогом (кроме предлогов невзирая на, несмотря на), запятая ставится факультативно;
также при использовании:
- причастных и деепричастных оборотов,
- обращений,
- уточнений,
- междометий,
- вводных слов (по некоторым источникам, вводные слова входят в состав обособленных обстоятельств, по другим — нет),
для разделения:
- между частями сложносочинённого, сложноподчинённого или сложного бессоюзного предложения;
- между прямой речью и косвенной, если косвенная речь стоит после прямой речи, а сама прямая речь не заканчивается знаками «!» и «?»; в этом случае после запятой (если она поставлена) всегда ставится тире.
- при однородных членах.
Как десятичный разделитель
В числовой записи, в зависимости от принятого в том или ином языке стандарта, запятой разделяются целая и дробная части либо разряды по три цифры между собой. В частности, в русском языке принято отделение дробной части запятой, а разрядов друг от друга пробелами; в английском языке принято отделение дробной части точкой, а разрядов друг от друга запятыми.
В информатике
В языках программирования запятая используется в основном при перечислении — например, аргументов функций, элементов массива.
Является разделителем в представлении табличных данных в текстовом формате CSV.
В Юникоде символ присутствует с самой первой версии в первом блоке Основная латиница (англ. Basic Latin) под кодом U 002C, совпадающим с кодом в ASCII.
На современных компьютерных клавиатурах запятую можно набрать двумя способами:
Запятая находится в нижнем регистре на клавише Del цифровой клавиатуры, если выбран русский региональный стандарт. Более правильно говорить, что в нижнем регистре на клавише Del цифровой клавиатуры находится десятичный разделитель для текущего регионального стандарта. Для США это будет точка. Запятая находится в верхнем регистре русской раскладки (набрать запятую можно лишь нажав клавишу ⇧ Shift. Существует мнение, что это неправильно, поскольку замедляет скорость набора текста (в русском языке запятая встречается чаще точки, для набора которой нажимать ⇧ Shift не требуется)[1].В культуре
- В детской считалочке:
Точка, точка, запятая —
Вышла рожица кривая,
Палка, палка, огуречик,
Получился человечек.
- В повести Лии Гераскиной «В стране невыученных уроков» Запятая является одной из подданных Глагола. Она описывается как горбатая старуха. Злится на Витю Перестукина за то, что тот постоянно ставит её не на место. В мультфильме «В стране невыученных уроков» Запятая также является подданной Глагола, но изображена иначе. Она выглядит не как старуха, а как девочка. Кроме того, она не такая злючка, хотя всё равно жалуется на то, что Витя ставит её не на место.
Варианты и производные
Средневековая, перевёрнутая и повышенная запятыеlink rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-dаta:TemplateStyles:r130061706">Изображение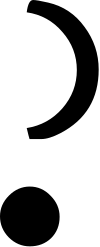
⹌⸴⸲Название
⹌: medieval comma
⸴: raised comma
⸲: turned comma
Юникод
⹌: U 2E4C
⸴: U 2E34
⸲: U 2E32
HTML-код
⹌: #11852; или #x2e4c;
⸴: #11828; или #x2e34;
⸲: #11826; или #x2e32;
UTF-16
⹌: 0x2E4C
⸴: 0x2E34
⸲: 0x2E32
URL-код
⹌: ⹌
⸴: ⸴
⸲: ⸲
В средневековых рукописях использовался ранний вариант запятой, выглядевший как точка с правым полукругом сверху. Для определённых сокращений использовался и знак повышенной запятой (⸴)[2].
В фонетической транскрипции Palaeotype для индикации назализации использовалась перевёрнутая запятая[3][4].
Все три символа закодированы в Юникоде в блоке Дополнительная пунктуация (англ. Supplemental Punctuation) под кодами U 2E4C, U 2E34 и U 2E32 соответственно.
См. также
.mw-parser-output .ts-Родственный_проект{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.4em;max-width:19em;width:19em;line-height:1.5}.mw-parser-output .ts-Родственный_проект th,.mw-parser-output .ts-Родственный_проект td{padding:.2em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственный_проект th td{padding-left:.4em}@media(max-width:719px){.mw-parser-output .ts-Родственный_проект{width:auto;margin-left:0;margin-right:0}}- Серийная запятая
- Точка
- Точка с запятой
- Число с плавающей запятой
Примечания
↑ Лебедев А. А. Ководство. § 105. Трагедия запятой. Студия Артемия Лебедева (14 июня 2004). Дата обращения: 17 мая 2019. Архивировано 12 декабря 2007 года. ↑ ichael Everson (editor), Peter Baker, Florian Grammel, Odd Einar Haugen. Proposal to add Medievalist punctuation characters to the UCS (англ.) (PDF) (25 января 2016). Дата обращения: 17 мая 2019. Архивировано 15 декабря 2017 года. ↑ Michael Everson. Proposal to encode six punctuation characters in the UCS (англ.) (PDF) (5 декабря 2009). Дата обращения: 17 мая 2019. Архивировано 7 апреля 2016 года. ↑ Simon Ager. Dialectal Paleotype (англ.) (htm). Omniglot. Дата обращения: 17 мая 2019.Ссылки
- , на сайте Scriptsource.org (англ.)
- ⹌ на сайте Scriptsource.org (англ.)
- ⸴ на сайте Scriptsource.org (англ.)
- ⸲ на сайте Scriptsource.org (англ.)
- Орфографические правила употребления запятой на gramota.ru
- Большая норвежская
- Брокгауза и Ефрона
- Britannica (онлайн)
- Britannica (онлайн)
- De Agostini
- Treccani
- BNF: 162295578
- SUDOC: 146880978
- Точка (.)
- Запятая (,)
- Точка с запятой (;)
- Двоеточие (:)
- Восклицательный знак (!)
- Вопросительный знакli>
- Многоточиеli>
- Дефис (‐)
- Дефис-минус (-)
- Неразрывный дефис (‑)
- Тиреli>
- Скобки ([ ], ( ), { }, ⟨ ⟩)
- Кавычки („ “, « », “ ”, ‘ ’, ‹ ›)
- Двойной вопросительный знакli>
- Двойной восклицательный знакli>
- Вопросительный и восклицательный знакli>
- Восклицательный и вопросительный знакli>
- Иронический знак (⸮)
- Интерробанг (‽)
- Предложенные Эрве Базеном (
 ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  )
)
- Перевёрнутый восклицательный знак (¡)
- Перевёрнутый вопросительный знак (¿)
- Перевёрнутый интерробанг (⸘)
- Китайская и японская пунктуацияli>
- Паияннои (ฯ, ຯ, ។)
- Апатарц (՚)
- Шешт (՛)
- Бацаканчакан ншан (՜)
- Бут (՝)
- Харцакан ншан (՞)
- Патив (՟)
- Верджакет (։)
- Ентамна (֊)
- Колон (·)
- Гиподиастола (⸒)
- Коронис (⸎)
- Параграфос (⸏)
- Дипла (⸖)
- Гереш (׳)
- Гершаим (״)
- Нун хафуха (׆)
- Иоритэн (〽)
- Средневековая запятая (⹌)
- Повышенная запятая (⸴)
- Двойной дефис (⸗, ⹀)
- Двойное тире (⸺)
По нашим данным в ближайшие несколько дней ожидается удар по Москве (не кораблю!).
Это могут быть как ракеты от ВСУ (ПВО РФ абсолютно неспособно их сбивать, как показали последние события), так и организованные ФСБ "хлопкиp>
Мы не знаем точных дат и организаторов, но точно что-то затевается и будет жарко.
p.s. Наши прошлые прогнозы насчет Брянской области и Белгорода подтвердились
Призываем к срочной эвакуации!
